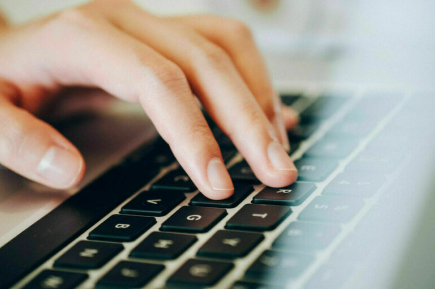А зори здесь по-прежнему тихие…
Скромным этим памятником почтили юных минеров, погибших избавляя этот уголок Прионежья от взрывоопасного наследия войны.
На кладбище деревни Нижние Водлицы в полусотне километров от райцентра Вытегры одиннадцать лет назад появилась черная гранитная плита с вытесанными на ней словами: «Мин больше нет. Их злые жала / Девчонки вырвали давно, / Чтоб смерть людей не обижала, / Чтоб в мире не было темно…».

«Маленькой я тогда была, худенькой, потому мины меня и терпели. Наступишь на противотанковую — и ничего, смолчит. Сама снимешь взрыватель и тогда только подружке отдаешь, пусть уносит, теперь не страшно. Я своим девочкам обезвреживать не доверяла. Они не обижались, помнили, как Маруся Пашкова подорвалась. Я рядом стояла, но только контузией отделалась. Метра на три взрывом отбросило и ничего более. А она… Боже мой, видели бы вы, как человек после взрыва над землей летит, кувыркается и весь в огне. Упала — одни головешки вместо Маруси…»
Клавдии Николаевне Логиновой на момент нашего разговора пятнадцать лет назад было за семьдесят.
Для остальных девушек-минеров по возрасту она самой старшей была и до самой кончины оставалась как бы старшей сестрой. Бывшая сотрудница районной газеты и на пенсии с авторучкой не рассталась, по всему Советскому Союзу разыскивала подруг, слала по всем инстанциям послания, надеясь, что вспомнят о них, соберутся все же отблагодарить за три года хождений «по гроба, как по грибы».
Примерно в этих же самых краях сражались и гибли героини знаменитого фильма «А зори здесь тихие…». Ни Логинова, ни ее подруги по разминированию эту киноленту без слез досмотреть ни разу не смогли. Хотя славным киногероиням жилось все же послаще. Все-таки они солдатами Красной Армии были официально оформленными, с питанием, обмундированием, званиями. А здесь… Что на себя надели перед уходом из родных домов, в том и трудились до снегов и морозов, когда земля затвердевала так, что мину не выковырять. Казенной обуви в первое лето не дождались, а своей подошвы проволокой от тех же мин приматывали. Когда и это не спасало, то лаптями обходились, сами их и плели. Многие так ноги позастуживали, что потом еле от избы до огорода могли дойти. Тамара Котовская, лично обезвредившая 1472 адские машины, в последние годы жизни и десятка метров сама одолеть не способна была. Однако… в армию их никто официально не призывал, так что «минерам по зову и приказу судьбы» ни прав, ни льгот, положенных инвалидам и ветеранам войны, долго не полагалось.
В Вологодском областном архиве новейшей истории мне показали папку с документами об этой мало кому известной минной страде. Война в Прионежье шла в основном позиционная. В сводках Совинформбюро этот участок фронта не упоминался. Происходившее здесь с 1941 года, когда 272-я дивизия остановила финнов, рвавшихся к Ленинграду, по 1944-й, в котором пришедшая на смену ей 368-я дивизия окончательно отбросила противника, впору передать перефразированным названием романа Ремарка «На Оштинском участке Карельского фронта без перемен». За годы противостояния леса, поля и болота оказались нашпигованными минами и фугасами.
Враг ушел, но минные поля остались. Профессиональным саперам хватало дел в действующих армиях. Мужчины воевали. Вот кому-то и пришло в голову бросить на взрывоопасные земли девушек и подростков. Партия сказала — надо, комсомол и Осоавиахим ответили — есть!
Командира девичьему в основном отряду нашли бывалого, даже внешне довольно схожего со старшиной из кинофильма. Иван Трофимович Васькин угодил под пулеметную очередь еще в 41-м где-то близ Евпатории. Пока перевязывали его, рядом рванула мина и к пяти пулевым добавилось девять осколочных ранений. После скитаний по госпиталям его признали негодным к строевой службе в любое время и направили домой в Прионежье, где поручили районный Осоавиахим. До 1944-го он занимался обычной оборонной подготовкой, а потом…
- По-разному к нам приходили, -рассказывал мне Иван Трофимович в окружении своих бывших подчиненных. — Были добровольцы, которые сами в райкомах записывались, а чаще девчонки сами не знали, куда же их забирают. Приходила повестка через исполком или сельсовет, а в ней по тому времени обычное: мол, явиться к назначенному сроку с запасом еды на столько-то дней… Отправляли их на курсы, давали часов семьдесят теории — и вперед на работу.
Планов многих минных полей не сохранилось. Это о наших взрывных заслонах речь, а о финских и подавно ничего толком не знали, вся информация сводилась к схемам линий вражеской обороны и сообщениям, где снова несчастная корова подорвалась. Миноискатели не реагировали на деревянные корпуса взрывных ловушек. Говорят, командир всему пример, он и оказался первым, кому досталось. Девушки выстроились на обочине дороги, а Васькин вышел на кромку поля для показательных занятий. Сначала Бог его миловал, а потом Иван Трофимович зацепил щупом взрыватель. Ударной волной наставника сбило с ног, но ранений, к счастью, не прибавилось. Зато всем наблюдавшим ясно стало, что с ними будет, если не повезет или же если расслабятся.
Без риска тогда ничего не давалось. Финны за годы позиционной войны обустроились на славу. Отступая, оставили в добротных землянках и блиндажах множество заманчивых штучек, которых уроженцы российской глухомани прежде не видывали. Расчет ушедших был на то, что наши солдаты и минеры не устоят перед любопытством, а то и соблазном прихватить что-то на память. Под любой безделушкой или настенной картинкой мог таиться провод к взрывному сюрпризу. Мины находили и в патефонах, и в коробках с пластинками, и в посуде. Однажды наткнулись на сауну. В ней все оставлено, как для гостей дорогих: парьтесь на здоровье. А тротиловая начинка оказалась даже под веником, не говоря уже о шайках или о каменке. Порой беда поджидала еще на пороге. Александра Осиповна Кирикова, немало походившая в родных местах с миноискателем, вспоминала: однажды, выйдя к финской базе, собралась в блиндаж заглянуть. Спас командир, вовремя и неласково оттолкнувший ее. Морали он читать не стал, а осторожно продел через дверную ручку веревку с петлей, чтобы узел не затягивать, и дернул ее на себя с безопасного расстояния. Внутри ухнуло так, что дверь в щепки…
Фейерверков хватало на всех. Однажды вдоль дороги выложили все мины, собранные за день. Набралось их больше четырехсот. Лежали они и лежали в ожидании, когда телегу пришлют, чтобы отвезти их к ближайшему полному безлюдью и подорвать. Оставили часовых, чтобы не польстился кто-нибудь из деревенских на взрывчатку для запретной рыбалки, и взвод замаршировал мимо этой импровизированной выставки античеловеческих достижений. Взрыватели удалены, чего бояться?! Но вдруг одна из безобидных уже убойных хлопушек возьми да рвани. Мины разбросало по сторонам. Взводу громом по ушам, но все целы остались. Поэтому поговорили вечером на высоких тонах, выводы сделали и через пару дней забыли про ЧП. Другие поводы для разбора полетов появились.
Снова вспомню знаменитый фильм и не без горечи скажу, что кормили «мобилизованных и призванных» по комсомольским путевкам совсем не по-киношному. Сохранилась не требующая пояснений справка о ходе разминирования, подготовленная для Вологодского обкома КПСС: «Питание согласно решению бюро обкома ВКП(б) от 4 апреля 1945 года по нормам промышленных рабочих организовано, за исключением чая, сахара, мыла, табака. Правда, отпускаемые продукты для разминеров недоброкачественные, в частности, картофель на 50 процентов гнилой и плесневелый, толокно вместо крупы затхлое и плесневелое. По этому вопросу разговаривал с т. Беззаботиным, обещал продукты выделить более лучшего качества».
И это уже сорок пятый год! В сорок четвертом было и того хуже. В шесть утра чай с куском хлеба и поначалу не всегда с сахаром, вечером баланда: по сезону с грибами, а то и без. В первую осень выручала картошка, предусмотрительно посаженная финнами. В ней тоже без «подарков» не обошлось, но минеры, как ни юны были, перехитрить себя не дали, иначе вместе с клубнями бы и к небесам или в калеки. Обедали прямо там, где время передохнуть застало, чтобы не топать пешком к своему лагерю, — сил по молодости хватало, но обувь, или точнее — ее остатки, берегли. Все меню — краюха ржаного да горсть клюквы или брусники, что подвернется на маршруте, и вперед с песней.
Про песню я без иронии. Они и впрямь пели и про Катюшу, и про танкистов, и про священную войну, и про туманы-растуманы. Эту, правда, исполняли на свой переиначенный лад: «Ах, минеры, мои, разминеры, / прионежские злые луга. / По домам мы вернемся не скоро / Лишь когда забелеют снега!» Не забывали и свои деревенские, запомнившиеся от бабушек напевы. Пели, когда шли по утрам снимать мины, добрая половина которых была поставлена советскими же войсками, пели, возвращаясь. А вечерами умудрялись еще на танцы в ближайшую деревню бегать. Иосифу Еремину и Вере Гришкиной минные поля помогли друг друга на всю жизнь найти. Где работали, там и укоренились. Все послевоенные годы трудились в колхозе «Новая заря», на обезвреженных собственными руками землях. Другие тоже оставались навечно неподалеку. Только без детей, без старости и даже без могилы.
- От Женечки Панфиловой одну косичку на ветке березы нашли, — говорила мне Клавдия Логинова, — да еще одежды обрывки. Мы потом частушку сложили: «Неужели мина — дура, / Неужели разорвет. / Мои русые кудерышки / По ветру разнесет».
Другим больше везло. Лидия Патрашина осталась без ноги, но в госпитале нашелся добрый человек, записавший в истории болезни о фронтовом ранении. Так что она хотя и на протезе, но с пенсией и в почете жила. А Марии Кирилловой врачи почерствее попались, она с похожим увечьем лет сорок мыкалась, пока не удалось справедливости добиться. Про «мелочи» вроде оторванного пальца вообще никто не вспоминал. Михаил Климов, умерший в начале 90-х, до самой смерти хромал, но радовался при этом, что удалось от врачей в госпитале отбиться — те хотели всю ступню отрезать, чудом спасся от любителей ампутаций…
Через три года надобность в гражданских «разминерах» пропала и уцелевших отпустили по домам. Высшим поощрением для выживших стал значок «Отличный минер». Иван Васькин пытался всех 88 своих подопечных, каждодневно игравших со смертью, к орденам представить. Но увы, у районных и областных властей нашлись свои соображения. В Москву отправили представления на восемь человек, но ответа так и не дождались. Одно исключение, правда, все-таки было: земляки погибшей Лидии Потаповой из города Белозерска все же добились указа о награждении орденом Красной Звезды.
В постсоветские времена постаревших героинь минного фронта наконец обрадовали. Законодательное собрание Вологодской области и областная администрация распространили на них льготы, положенные участникам войны. Затем пришел черед запоздалых, но не обесценившихся наград. В архивах нашлись копии давних представлений, и тогдашнее руководство Вологодчины постаралось дать ход навеки позабытым, казалось бы, документам. Подобного прецедента в нашей стране еще не было, и дело шло не без шероховатостей. Занимавшийся им помощник губернатора Александр Штурманов объяснил мне: камнем преткновения оказалось то, что ни ордена Боевого Красного Знамени, ни ордена Красной Звезды, о которых шла речь в ходатайствах полувековой давности, новая Россия в наследство от СССР не приняла. А как награждать тем, чего нет?! В конце концов, новые представления оформили на орден Мужества. По неведомым причинам этот вариант признания заслуг одобрения не получил и высшие наградные инстанции остановились на медалях «За отвагу». На мой взгляд, компромисс вполне достойный. Подвиги, совершенные в былые времена, куда логичнее отмечать наградами, современными свершениям, чем современными знаками отличия. К тому же из отцовских рассказов мне запомнилось, что в годы войны солдаты ценили эти медали не меньше, чем ордена.
Словом, получилось прямо-таки, как пророчил Василий Теркин в поэме Александра Твардовского: «Нет, ребята, я не гордый. / Не загадывая вдаль, / Так скажу: зачем мне орден? / Я согласен на медаль. / На медаль. И то не к спеху. / Вот закончили б войну, / Вот бы в отпуск я приехал / На родную сторону. / Буду ль жив еще? — Едва ли. / Тут воюй, а не гадай. / Но скажу насчет медали: / Мне ее тогда подай…»
Награды им вручали пятнадцать лет назад там, где они их заслужили, — в начисто выгоревшей за войну деревне Оште на границе Вологодской и Ленинградской областей. Были планы собрать за праздничным столом всех доживших, но кое-кого из сорока трех хвори удержали дома. Ладно еще, что болезни не всех смогли взять в оборот. Анастасия Васильевна Маньшина была в 1944-м командиром отделения. Потом работала десятником на лесоразработках, пятерых детей вырастила. Уже с медальной коробочкой в руках сказала мне: особо гордится тем, что сыновья да и внуки никогда не приходили к ней на бутылку стрельнуть. И не потому, что живется всем очень сладко, а потому, что не привыкли печали на дне стакана топить. Она же сама способна была за себя постоять. За год до награды собственноручно два КамАЗа дров распилила и на чурки порубила. Такой вот шейпинг вкупе с аэробикой по-вытегорски.
А Иосиф Еремин до признания его отважным не дожил. Медаль за него получила жена его Вера, в девичестве Гришкина. Ее саму тоже наградой не обошли. Уж не знаю, была ли в России другая семья, в которой две медали «За отвагу» и у жены, и у мужа, к несчастью, посмертно.
Я смотрел на них, и в памяти всплывала фраза английского классика Уильяма Теккерея. «Любая старушка когда-то была красавицей», — писал знаменитый англичанин в «Ярмарке тщеславия». Но красоту вкупе с молодостью все равно не удержать, так что жалеть об этом не стоит. Горько от иного: порадоваться своим юным прелестям им в полной мере не довелось из-за войны, из-за мин, из-за взрывов.
У иных из моих собеседниц к «медальному» дню внуки успели срочную отслужить и у правнуков впереди призывной возраст наметился. Тогда шли бои в Чечне, и о минах-растяжках что ни день, то услышать можно было с телеэкранов. Я спросил у них: а смогли бы сейчас с адскими машинками справиться, если нужда заставит?
Одни ссылались на непослушные от прожитых лет и нелегкого труда пальцы, которым прежней чуткости не вернуть. Другие уверяли, что знакомые мины в телерепортажах видывали и даже прикидывали, как бы половчее лишить их взрывной мощи. Но и после вопроса, и на прощание все не забывали сказать: «Не дай бог!»
Олег Дзюба

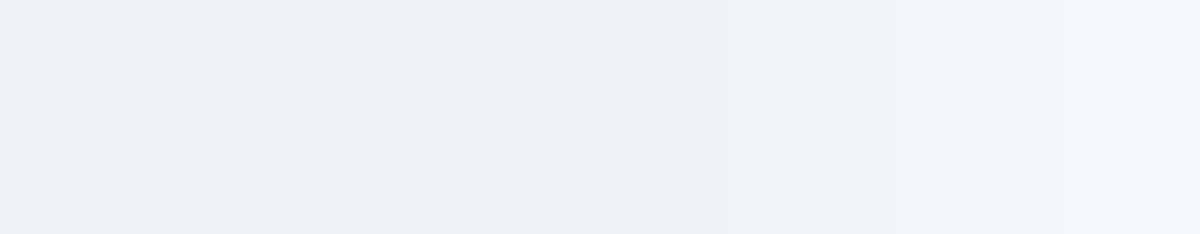

 3965
3965