Театр — это не музей!..
260 лет назад, 10 сентября 1756 года, был основан Александринский театр

Именно в этот день в 1756 году императрица Елизавета Петровна издала Указ о создании «русского для представления комедий и трагедий театра». С этой даты и ведет свою историю Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина, которому в 1991 году вернули и историческое название — Александринский. Его появление означало рождение профессионального, публичного театра в России как такового. То есть можно не кривя душой сказать, что 260 лет назад в стране зародилась государственная политика в области культуры.
ГЛАВНЫЙ В ИМПЕРИИ
До революции Александринка была главной сценой Российской империи, и на ней шли спектакли всех жанров — оперы и балеты, оперетты и водевили и, разумеется, драма. Правда, это имя театру присвоили не сразу — сначала он был Придворным. Но в 1832 году труппа вселилась в новое здание, построенное архитектором Карлом Росси, — то самое, знаменитое, окруженное белыми колоннами и с квадригой на фронтоне. Это случилось при Николае I — в честь его супруги, императрицы Александры Федоровны, и назвали театр.
Естественно, именно здесь чаще всего впервые ставились новые пьесы. Так что большинство легендарных спектаклей родилось на этой сцене. В 1831 году здесь прошла премьера «Горя от ума» Грибоедова, в 1836 году показали «Ревизора» Гоголя, в 1856-м — «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина, в 1859-м — «Грозу» Островского. В 1867-м впервые поставили трагедию Алексея
Толстого «Смерть Иоанна Грозного», а спустя три года — пушкинского «Бориса Годунова». В 1879 году великая Марья Савина заблистала в роли Верочки в «Месяце в деревне» Тургенева, а в 1895-м она первой сыграла Акулину в пьесе Льва Толстого «Власть тьмы». В 1896 году состоялся, наверное, самый знаменитый провал в истории мирового театра: зрители освистали премьеру чеховской «Чайки». А буквально накануне революции Всеволод Мейерхольд поставил в Александринке свой знаменитый «Маскарад» Лермонтова.
В общем, театр с историей, и богатейшей. Одно перечисление великих актеров и режиссеров, служивших здесь Мельпомене, заняло бы немало времени. Придется ограничиться только самыми-самыми: Николай Акимов, Леонид Вивьен, Игорь Горбачев, Валентина Ковель, Григорий Козинцев, Вера Комиссаржевская, Эмиль Лотяну, Василий Меркурьев, Николай Симонов, Олег Стриженов, Юрий Толубеев, Николай Черкасов, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Мамаева, Бруно Фрейндлих, Надежда и Вера Самойловы. И тут могли бы стоять еще десятки имен.
ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Десять лет назад, когда Александринка отмечала свое 250-летие, рядом с нею открыли музей, где собрали старые костюмы, афиши, фотографии, реквизит. Многие удивлялись: почему музей находится не в здании театра, как у других, а отдельно? А теперь это выглядит даже символично: театр, хоть и самый старый в стране, но он — не музей. Он по-прежнему живой.
- Театр ценен не реликвиями, а тем, что есть сегодня — что играют, как играют, — заметил, поздравляя труппу Александринки с юбилеем, руководитель московского театра «EtCetera» Александр Калягин.
И весь праздник оказался подтверждением его слов. В свой 261-й сезон труппа готовит множество премьер, причем сразу на двух сценах — исторической и новой.
- Эту сцену кто-то назвал свежей, — с улыбкой показал свою гордость художественный руководитель театра Валерий Фокин. — А главная сцена, получается, не первой свежести, как осетрина.
- То, что я здесь ставлю, — для меня огромная честь и событие, -признался украинский режиссер Аттила Виднянский, который сейчас наводит последний лоск на «Преступление и наказание». — Такая пьеса раз в жизни дается, и я все сделаю, чтобы получился хороший спектакль. «Шестеро персонажей в поисках автора» поставит Лука де Фуско.
- Это очень важный текст, -признался Лука. — Это выражение глубокой любви театра к театру. В России эта пьеса ставится редко, поэтому я буду очень ответственно работать над спектаклем.
Итальянец признался в своей личной любви — к Александринке:
- Это замечательный, красивый театр, который очаровывает своим великолепием и своей историей.
Но не только иностранцы приложат руку к репертуару. Например, «Оптимистическую трагедию» будет ставить москвич Виктор Рыжаков. Правда, придется ему туго, ведь на этой же сцене в 1955 году эту пьесу ставил Георгий Товстоногов, и еще живы театралы, которые помнят тот триумфальный спектакль. Так что сравнения неизбежны.
МУКИ ТВОРЧЕСТВА
 Кстати, новый, 261-й сезон Александринский театр встретит с новым главным режиссером. И именно в день юбилея худрук Валерий Фокин назвал его имя: это Николай Рощин. Еще молодой, но уже признанный.
Кстати, новый, 261-й сезон Александринский театр встретит с новым главным режиссером. И именно в день юбилея худрук Валерий Фокин назвал его имя: это Николай Рощин. Еще молодой, но уже признанный.
- Главный режиссер — это как в браке: надо подойти театру, — привел сравнение Фокин. — И не просто подойти — совпасть в эстетическом плане, это очень важно. Николай своими работами это уже сделал: он поставил у нас два спектакля, актеры его любят, хотят с ним работать. Ему 42 года — возраст серьезный, пора приобретать и этот опыт.
Правда, сам Рощин о новом статусе и новых обязанностях пока не думает. Он выпускает спектакль «Баня» по Маяковскому.
- Сложнейший текст, сложнейший автор, — простонал новоиспеченный главреж. — Я нахожусь в каком-то ужасе. Текст кажется архаичным, несовременным, и совершенно непонятно, как это делать.
- Значит, будет борьба с материалом, — довольно откликнулся Фокин.
- Там такой внутренний творческий экстремизм Маяковского, — продолжил Рощин. — Это очень интересно на сцене, но я сомневаюсь, пропустит ли цензура.
- У нас нет цензуры в театре, — по-отечески улыбнулся худрук. — И в стране ее тоже нет. Борьба с материалом полезна. Когда мы ставили «Троянок», тоже пришли в ужас: архаичный текст, непонятно, как это произносить. И когда мы их показывали в Неаполе, боялись, что нас освистают: там этот текст изучают, каждую строчку знают наизусть, — а мы все перевернули, изменили. Но итальянцы приняли, им было интересно.
ТРАДИЦИЯ — В РЕФОРМАХ
260-летие Александринского театра и русского театра вообще отмечали не то чтобы пышно, скорее — интеллигентно, по-петербургски. Особых торжеств, размаха и удали не наблюдалось.
Ранним утром труппа возложила цветы на могилу последнего директора Императорских театров Владимира Теляковского. Его в Александринке ценят за реформаторское начало, желание развивать культуру, а не довольствоваться сделанным. Хотя не спорят, что фигура Теляковского была очень неоднозначной: кавалерийский полковник, отчаянный рубака — и во главе дирекции театров? Его не все принимали тогда, не все согласны с его методами и сейчас. В начале ХХ века Теляковский привлекал в театр новаторов, опровергателей, бунтарей. Благодаря ему заблистал молодой Всеволод Мейерхольд, пришли на императорскую оперную сцену Федор Шаляпин и Леонид Собинов, а оформлением спектаклей занялись Коровин, Бенуа, Бакст — самые передовые художники того времени. А воспитанием молодежи Александринки занялся великий Станиславский. Так что Владимира Теляковского в театре помнят и ценят.
А затем в честь юбилея впервые в истории Александринки прошел открытый сбор труппы: на него пригласили чиновников, отвечающих за культуру, журналистов и вообще чуть ли не всех желающих. Народу пришло — не протолкнуться. Омрачило событие только одно. Впрочем, не то чтобы омрачило, скорее обескуражило. На праздник не приехал ни министр культуры Владимир Мединский, ни вообще кто-либо из Минкульта. Обошлись поздравительной телеграммой.
- Меня это по меньшей мере удивило, — усмехнулся знаку невнимания Валерий Фокин. — Я могу это сказать, я ничего не боюсь, кроме плохих спектаклей. Просто 260-летие связано не только с нашим театром, но и со всей российской культурной политикой. Представляете, на мой день рождения Мединский приехал, а на день рождения театра — нет. Это странно. Удивительно. Но ничего, переживем.
Груз истории на плечи Валерия Фокина давит не особо — он предпочитает думать не о прошлом, а о будущем. И даже к былым успехам относится снисходительно:
- Успех в театре — это всегда дело одного дня, а потом начинаются новые задачи. Но когда речь идет о театре старинном, надо держать руку на пульсе: это живая машина и все может измениться очень быстро. Поэтому, если хочешь, чтобы театр был живым, надо постоянно опровергать результат, которого достиг. Остановился — и все.
- А традиции чтите?
- Ценны только живые традиции, — пожал плечами худрук. — Традиции ведь бывают разные — и хорошие, и дурные, и трудно отличить одно от другого. Дурные ведь рядятся в одежды демагогии и активно защищаются. А живые традиции помогают даже в кризисные периоды — а за 260 лет бывали и трудные времена, и периоды застоя. Тот же Владимир Теляковский в жесточайшей борьбе проводил реформы, бился, чтобы на сцену пришло то, что теперь считается классикой — Чехов, Ибсен. Было сопротивление и власти, и в театре, и вне театра. И зритель сопротивлялся — все было так же, как сейчас. Так что традиция такая: хорошее реформистское начало надо брать с собой. А все дурное — в музей!

Фото Кати Кравцовой
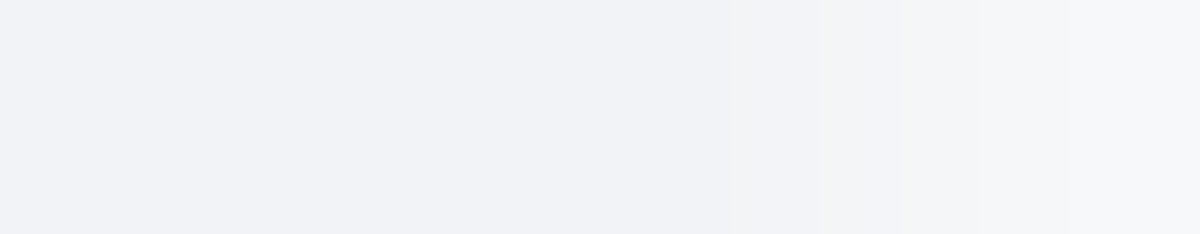

 5330
5330






