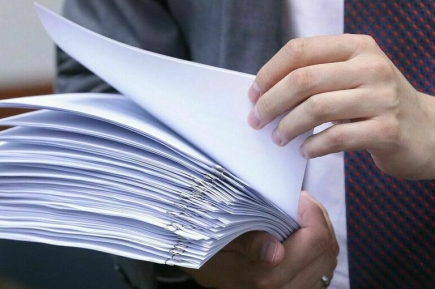Тайны дяди Гиляя
Владимира Гиляровского принято считать певцом и летописцем старой Москвы

Но у других краев и стран ничуть не меньше прав на расположение к знаменитому репортеру и почитание его памяти. Чего стоили его разоблачения порядков на Морозовской мануфактуре, ужасов, творившихся на спичечных фабричках Егорьевска, многонедельные блуждания по бандитским тропам Гуслищ в поисках следов похождений разбойника Васьки Чуркина… А еще войны, еще нелегальные, бездокументные странствия по Руси. А еще загадки, которые Владимир Алексеевич оставил после себя. Скажем, в начале декабря полагается отмечать 160-летие со дня рождения знаменитого журналиста, но с этой канонической вроде бы датой не все просто…
Энциклопедию поправляешь не каждый день, а потому этот нечаянный вклад в достижение точности мне особенно приятен. Десять лет назад я работал корреспондентом одного из информационных агентств в Вологде, и незадолго до приближавшегося в ту пору 150-летия со дня рождения «короля репортеров» я поинтересовался в Государственном архиве Вологодской области, а не сохранилось ли там каких-либо сведений, связанных со знаменитым питомцем земли Вологодской… Вологда — город не слишком большой, от меня до архива было пять минут быстрой походкой. Через эти пять минут и выяснилось, что юбилей следовало бы перенести на два года вперед, что на родине журналиста и сделали!
Сам Владимир Алексеевич вроде бы и впрямь считал себя уроженцем 1853 года, о чем и написал в знаменитой книге «Мои скитания»! Тем не менее, метрическая книга Покровской церкви села Сяма прямо и недвусмысленно констатирует, что на самом деле будущий гений репортажа, а в ту пору всего лишь «младенец мужеского пола Владимир Гиляровский сын Алексеев» появился на свет 26 ноября 1855 (!) года и был крещен 29 ноября (по старому стилю). Этой находкой изумила сначала меня, а потом и других поклонников литературы старший археограф Государственного архива Вологодской области Ираида Игнатьевская.
С таким свидетельством не поспорить. Можно опровергнуть отдельно взятый документ, но в полном своде рождений и кончин Покровского прихода ошибка на целых два года полностью исключена. Так откуда же взялось загадочное расхождение данных?
Разночтения встречаются и в печатных источниках. Большая советская энциклопедия, соответствующий том которой вышел из печати в начале 50-х годов прошлого века, называет 1853 год, а Малая советская энциклопедия, вышедшая шестью годами позднее, сдвинула дату на 24 месяца вперед. Энциклопедический словарь «Вологда» вновь называет 1853…
Сейчас и не разобрать, какими данными руководствовались авторы статей о знаменитом земляке. Очевидно, основным источником была статья самого Владимира Алексеевича, которую он опубликовал в 1928 году к собственному (как он считал или хотел, чтобы другие считали) 75-летию. Нельзя исключать и вероятность описки безвестного канцеляриста, заполнявшего бланк паспорта подданного Российской империи. Ясно лишь, что в саму метрическую книгу никто прежде не заглядывал. А книга эта гласит, что бракосочетание Алексея Гиляровского и дочери мещанина Мусатова Надежды свершилось в 1854 году.
Можно, конечно, пойти по стопам авторов авантюрных романов и допустить, что ребенок мог появиться до венчания, а крещен после официального бракосочетания. Мол, жили родители Владимира Алексеевича в глуши, трудно ли там скрыть грехи молодых…
Вспомним, однако, что венчались Алексей и Надежда в царствие Николая I, которого в недавние времена представляли исчадием ада, а сейчас уже именуют «рыцарем». В любом случае, он весьма внимателен был к соблюдению, как говорится, внешней стороны приличий. В годы его правления за подобную «лакировку действительности» молодожен мог угодить и в Сибирь! Что же касается священника, рискнувшего совершить такое венчание и запоздалое крещение, то его в лучшем случае ждало бы лишение сана, если не скамья подсудимых, а монашествовавшего батюшку — многолетнее покаяние в монастыре.
Архивные откровения бросают свет и на другую сторону биографии великого журналиста. В мемуарах Гиляровский писал, что его дед по материнской линии происходил из кубанских казаков, хотя церковная книга недвусмысленно называет его сыном дочери мещанина. Такая корректировка биографии предка вполне понятна, казачья кровь в жилах куда вернее объясняла свойственную Гиляровскому необузданную страсть к риску, приключениям и опасностям, чем родство со скромным горожанином.
Однако в тех же «Моих скитаниях» встречается и куда более откровенная селекция родословного древа. Владимир Алексеевич, не жалевший похвальных слов в адрес новой власти, все же предпочел промолчать о полицейской службе отца, назвав его помощником управляющего лесного имения! Далее он скромно упоминает, что семья переехала в Вологду, где отец получил место чиновника в губернском правлении.
Теперь заглянем в «Мои скитания», где описывается первое посещение Гиляровским театра и первое оглушительное впечатление от игры актеров, в клан которых он вступил годами спустя после неудач на воинской службе: «Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельэтажа, сбоку… Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка, и потом все они сели в первом ряду…»
Нетрудно догадаться, что скромному чиновнику «губернского правления» сиживать на столь почетных местах было не по чести! А дело-то в том, что Алексей Гиляровский служил в то время уже не графу Олсуфьеву, а Государю Императору в качестве станового пристава Вологодского уезда! Тут не обойтись без разъяснений в терминологии. В городах имелись частные приставы — от слова «часть». «Частный» вполне мог дослужиться и до полковника. А в сельской глубинке они именовались «становыми» — от слова «стан». Формально эта должность примерно эквивалентна районному начальнику отделения полиции! Но тогдашние уезды были куда обширней нынешних.
Словом… Гиляровский-старший по служебному положению вполне имел право смотреть представления рядом с полицмейстером. Нетрудно предположить, что именно должность и полицейские связи отца впоследствии помогали Владимиру Алексеевичу без особых помех возвращаться к легальной жизни после многих блужданий по России, пребывания в компаниях и ватагах, которые не рискнул бы назвать приличными даже самый ярый защитник почвенничества и народности. Вполне вероятно, что отец помог ему обзавестись новыми документами, в которых оказалась случайно или намеренно искаженная дата.
Намек на это мимолетно бросил сам Гиляровский, упомянув, что после ухода из армии он свою метрику и послужной список уничтожил. Но в той же книге он рассказывает про эпизод, прямо смахивающий на библейскую притчу о блудном сыне, когда отец, случайно встретив его в Рыбинске, тут же выдергивает не вполне путевого потомка из бурлацкого окружения.
Архивная находка дает повод немного углубиться в другие обстоятельства, связанные с нашим великим журналистом, поскольку его бурная жизнь по-прежнему упоминается то в современной беллетристике, то в журналистских байках. Помните хохочущего здоровяка с картины «Запорожцы…»? Этого пышущего разгульным оптимизмом казака Репин писал именно с Гиляровского. А в XX веке советский художник Кибрик откровенно отталкивался от репинского образа в серии иллюстраций к той же повести Гоголя.
Последний анекдот, связанный с именем так и не доучившегося вологодского гимназиста, относится к годам относительно недавним. Лет тридцать назад московские репортеры принимали новобранцев своей секции
Союза журналистов не где-нибудь, а на квартире Гиляя в Столешниковом переулке. Среди кандидатов на прием оказался сын заведующего сектором печати ЦК КПСС. Подававший надежды молодой журналист трудился в то время в «Комсомольской правде» и накануне дня приема похвастался дома предстоящим получением членского билета. Событие было и впрямь нерядовым, потому что обладателю вишневых «кожаных корочек» открывался доступ к разным прелестям Дома журналистов. Формально речь шла о выставках и встречах, но на деле-то всех манил пивной бар и ресторан, кухня которого не оставила бы, пожалуй, в равнодушии и самого Гиляровского.
Мечты номенклатурного сына ничуть не обрадовали высокопоставленного отца. Курируя прессу, он о Гиляровском умудрился никогда не слыхивать, а потому позвонил наутро председателю секции репортеров и устроил нагоняй за прием в Союз журналистов СССР на квартире у каких-то типов с подозрительной фамилией! Представляю, как веселился бы сам Гиляй, узнав каким-то потусторонним образом о таком повороте событий.
Кабинет Гиляровского, в который не рискнули прийти репортеры, сохранен в том самом виде, каким его любил хозяин. Однажды мне удалось побывать в комнате, из которой разлетались по всей России и далее знаменитые репортажи. На стенах так и висят карикатуры на московские редакции, прибитые едва ли не самим Владимиром Алексеевичем. Цел знаменитый диван, на котором Гиляровский отлеживался после Ходынки и на который он днем позднее рассаживал зарубежных репортеров, пришедших брать у него интервью о жутких часах среди мертвых и умирающих.
Страшно сказать, но если бы не Гиляровский, то описания этой трагедии могло бы вообще не сохраниться. Другие репортеры в основном паслись вокруг да около царя и его свиты. Всех занимало восшествие нового императора на престол, а вот малоинтересная для светской прессы раздача подарков, обернувшаяся жуткой трагедией, притянула одного лишь Гиляровского.
Другое дело, что оказался он там, где ныне расположился центральный аэровокзал Москвы, не совсем по своей воле. Охранное отделение сочло его не вполне благонадежным, так что аккредитации на освещение торжеств в Кремле Владимир Алексеевич не получил. Поэтому редакция и переориентировала его на освещение «уличных сценок»!
Правда, в этом случае все же не обошлось и без еще одного сотворения легенды о самом себе. При всем уважении к этому репортерскому подвигу, нельзя не упомянуть, что Гиляровский, очевидно, не был вполне чужд некоторой беллетризации истинных событий. Свое спасение на Ходынке он объяснял отцовской табакеркой, которую отправился искать, благодаря чему и избежал самой страшной давки. Та же табакерка вроде бы спасает ему жизнь в Белграде, когда, забыв ее в номере отеля, он вернулся за реликвией и разминулся с патрулем, который его неминуемо арестовал бы. В те дни в Сербии Бог весть что творилось, и отважный репортер вполне мог сгинуть в застенках тайной полиции. Нетрудно, кстати сказать, заметить некоторого сходства с финалом «Тараса Бульбы», в котором герой гибнет из-за оброненной люльки.
В наше время его легендарный репортаж неожиданно в чем-то воскрес на страницах «Коронации» модного ныне Бориса Акунина. Эпизод романа, связанный с Ходынкой, откровенно перекликается с описанием катастрофы в «Москве газетной». Без влияния
Владимира Алексеевича не обошелся и акунинский роман «Смерть Ахиллеса». Сюжет его навеян легендами о насильственной смерти героя русско-турецкой войны генерала Скобелева. А подробное изложение канвы тех событий, включая подлинное имя дамы полусвета, которую Акунин обвиняет в убийстве, проще всего найти опять же у Гиляровского.
События эти, кстати сказать, свершились в сотне-другой метров от квартиры репортера в Столешниковом переулке. Умел Владимир Алексеевич оказываться в нужное время в нужном месте. Ведь не окажись он за столом, где очевидец рассказал о том, что действительно происходило в ночь смерти Скобелева, то версия об убийстве, наверное, по сию пору считалась бы неуязвимой.
В «Моих скитаниях» Гиляровский привел шутливый диалог, подслушанный им в Московском театре Корша. Священник из соседней церкви пожаловался, что народ мало ходит в храм. А Корш ему в ответ: «Репертуарчик старенький у вас! У меня вот каждая пятница — новинка, и всегда полно…» Вот и весь секрет удачи.
Олег Дзюба
Старая Москва времен дяди Гиляя
Мясницкий полицейский дом в Малом Трехсвятительском переулке

Торговец на Сухаревском рынке(1920)

Дом Алсуфьевой на углу Тверской улицы и Брюсова переулка (1907)

Елисеевский. Фруктовый отдел (1901)