Когда говорят пушки, музы не молчат
31 июля 1914 года петербургский сатирический журнал «Новый Сатирикон» поместил на обложке рисунок, двумя неделями ранее показавшийся бы читателям совершенно немыслимым.

Остроумцы и весельчаки, объединившиеся вокруг редактировавшего этот сверхпопулярный еженедельник «короля юмора» Аркадия Аверченко, привыкли нещадно высмеивать и осмеивать вся и всех. Теперь же читателям предлагался не виданный доселе вариант объединения: представители четырех сословий — рабочий, крестьянин, чиновник-сановник и купец, немало похожий и на университетского профессора — дружно взялись за меч, переданный им монументальной воительницей, символизирующей Российскую империю.
 И без того понятная символика подкреплялась однострочной цитатой из Манифеста, посредством которого Николай II оповестил подданных о начале новой войны: «В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри».
И без того понятная символика подкреплялась однострочной цитатой из Манифеста, посредством которого Николай II оповестил подданных о начале новой войны: «В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри».
В редакционном предисловии к номеру сатириконцы заявляли: «Когда… десятки тысяч семейств провожают своих любимых на войну и скоро появятся люди в глубоком трауре, и в церквах будут поминать имена павших в бою воинов, — тогда не только смех, но даже слабая улыбка… является оскорблением народному горю… И, однако, мы считаем необходимой задачей, обязанностью внести свою хотя бы крошечную долю, увеличивающую всеобщее воодушевление… внести хотя бы каплю. в стихийный девятый вал, который мощно подымает на своем сияющем гребне к небу… всех нас, заставляя забыть партийные раздоры, счеты и ссоры мирного времени.., потому что все покрыл один могучий крик… Отечество в опасности»!..
«Аверченко и компания» фактически призывали отвергнуть древнюю истину — «когда говорят пушки, музы молчат», известную в этом варианте со времен изобретения пороха, а в более архаичном и, так сказать, неартиллерийском варианте восходящую к самому Цицерону.
Музы, а точнее, поэты, вдохновляемые музами, и впрямь не молчали, хотя голоса их были, как, впрочем, и должно быть, очень уж разными. Разным было и восприятие войны применительно к себе. Недаром ее называли и «Священной», и «Второй Отечественной», и просто «Отечественной», а после 1917 года просто «Империалистической». Опять же, и «лица необщее выражение» у каждого из достойных упоминания стихотворцев было настолько разным, что попытка сказать свое неповторимое слово в, несомненно, волновавшей поэта теме оборачивалось досадным промахом, сравнимым кем-то с терновым венцом, надетым на себя по собственной же инициативе.
Сама по себе тема «муз и пушек» настолько безбрежна, что представляется немыслимым вычерпать ее до дна в одной журнальной статье. Я попытаюсь затронуть лишь некоторые ее грани, остановиться на немногих, но особенно примечательных именах.
Наиболее обидным, так сказать, падением в лужу под ливень критических стрел, издевательств пародистов и на многие годы растянувшейся травли вошел в поэтическую историю войны Игорь Северянин, опрометчиво провозгласивший: «Друзья! Но если в день убийственный / Падет последний исполин, / Тогда ваш нежный, ваш единственный / Я поведу вас на Берлин»! Манерно-возвышенный стиль, вполне уместный и даже чарующий в «Ананасах в шампанском» или в «Мороженом из сирены» применительно к ужасам войны — пусть даже в первые ее дни, когда никто, за исключением самого Творца, не мог предвидеть, чем она обернется, — оказался настолько неуместен, что автор после 1917 года угодил у большевистской критики в «черные списки», и стихи его почти не появлялись в печати до 80-х годов XX века, не считая нескольких «поэз» в хрестоматиях и огоньковской публикации откровенно неудачных славословий по случаю вхождения Прибалтики в состав СССР
Мечта о трехцветном флаге над Берлином и впрямь была уж очень не ко двору наследникам сбывшейся, увы, ленинской мечты о перерастании войны «империалистической» в гражданскую. Впрочем, это Северянину, может быть, еще и простили бы, но никак не могли простить эмиграцию, в которой он, вообще-то, оказался случайно, поскольку Ленин щедро отпустил в свободное плаванье по волнам истории все западные окраины России. Северянин, любивший уединяться от славы в эстонском захолустье близ Нарвы, оказался там в день провозглашения независимости этой территории, никогда прежде государственностью не обремененной. Точно так же оказались эмигрантами финляндские, так сказать, дачники — Илья Репин и Леонид Андреев.
Растянувшееся на десятилетия пренебрежительно-негативное отношение к зарубежной русской литературе, к несчастью, обрекло на забвение другое военное стихотворение Северянина, в котором разудалое шапкозакидательство сменилось пусть и не лишенными манерности, но все же иными мотивами: «Еще не значит быть изменником — / Быть радостным и молодым, / Не причиняя боли пленникам. / И не спеша в шрапнельный дым… / Еще не значит… Прочь уныние. / И ядовитая хандра! / Война — войной. Но очи синие, / Синейте завтра, как вчера! / Война — войной. А розы — розами. / Стихи — стихами. Снами — сны. / Мы живы смехом! Живы грезами! / А если живы — мы сильны! / В желаньи жить — сердца упрочены… / Живи, надейся и молчи… / Когда ж настанет наша очередь, / Цветы мы сменим на мечи!»
Декларировать подобную замену оказалось, однако же, куда проще, чем на самом деле взять винтовку в руки. Вины изобретателя «поэз» в этом все же нет. Есть версия, что от солдатчины Игоря Лотарева, как именовался Северянин по записи в паспорте, избавил будущий убийца Распутина Феликс Юсупов, исполняя просьбу своей жены, влюбленной в северянинскую лиру.
|
|
Связи у князя и его супруги (племянница самого царя!) имелись весомейшие, однако в ту пору еще действовали, хотя и не без сбоев, правила чести. Даже Распутин не рискнул прямо просить царицу за своего единственного сына, убедив Александру Федоровну просить царя вообще отсрочить призывы «ратников второго разряда». А Лотарев-Северянин, надев ненадолго мундир, наглядно доказал начальству — от фельдфебеля до полковника — свою полную неспособность к строевой службе, что вкупе с пороком сердца и не дало ему осуществить свою поэтическую декларацию, а может быть, и сложить голову где-нибудь в Галиции.
Сам поэт в любом случае от армии, говоря современным молодежным языком, «не косил». Не уклонялся, а напротив, пытался пойти добровольцем и Владимир Маяковский, которого, впрочем, к оружию не допустили за его откровенную для властей неблагонадежность. Не отлынивал от воинской службы и Андрей Белый. Этот рафинированный эстет, мистик-символист к началу войны оказался в Швейцарии, где вместе с единомышленниками по увлечению модной тогда антропософией строил храм этого не то философского учения, не то секты. Но стоило российскому консулу потребовать его возвращения, как Белый безропотно отправился на родину, хотя ему ничего не стоило бесследно для властей затеряться в Европе. Армии он, правда, в итоге не понадобился, но разговор не о том, а об отношении к долгу.
При всем при этом единственным из литераторов первого ряда, кто не уместился в рамках, так сказать, моральной поддержки объединения общества перед угрозой нашествия, а сам в полном смысле слова ринулся в бой, был Николай Гумилев. Хлопотать об отправке сначала в учебную часть, а потом и в действующую армию он принялся 28 июля, и было это для него делом непростым, поскольку близорукость и некоторое косоглазие надежно гарантировали ему «белый билет». Тем не менее, уже 13 августа он под Новгородом, где дислоцировался Гвардейский запасной кавалерийский полк, а днем спустя зачислен в шестой эскадрон «охотником», как тогда именовали добровольцев. А что касается зрения, то сослуживцы подметили, что из-за проблем недостаточной остроты видения правым глазом он прекрасно стрелял с левой руки, хотя левшой и не был!
Кроме стихотворений, которые вправе быть отнесены к шедеврам фронтовой поэзии, созданным к тому же самим участником событий, Гумилев вошел в военную литературу еще и в качестве одного из очень немногих авторов, писавших непосредственно с поля боя. Примеров такого рода очень и очень мало, а литераторов, публиковавших свои впечатления и описания военных буден в ежедневной прессе, вообще в мировой литературе почти нет.
Как не вспомнить, что гумилевские «Записки кавалериста» высоко ценил разведчик Великой Отечественной войны, а позднее писатель Владимир Карпов, на счету которого 79 (!) «языков», захваченных за линией фронта, что и принесло ему в 1944 году звание Героя Советского Союза. Мнение Карпова особенно весомо, ибо принадлежит профессионалу разведдел, способному отличать истину от вымысла, пусть даже и художественного.
С другой стороны, уникальность гумилевской репортажной прозы связана к тому же с тем, что в русской литературе, посвященной Первой мировой войне, почти нет заметных книг, созданных очевидцами. Причину, да и вину отсутствия у нас своих Хемингуэев, Ремарков и Олдингтонов, придется искать… в Октябрьской революции, после которой само участие в сражениях стало рассматриваться не как достоинство, а, скорее, как недостаток. Не потому ли даже Михаил Зощенко, нашел себя не в военной, а в сатирической прозе, при том, что ему-то было о чем рассказать…
Для Гумилева же, ставшего первым после Дениса Давыдова стихотворцем, изведавшим и конные налеты, и разведывательные рейды, и радость наступлений вкупе с горечью отходов на восток, плоды его героизма оказались смертельно горькими. Большевистская критика не давала ему покоя и после казни за якобы участие в придуманном заговоре. Ему не могли простить и хрестоматийных теперь уже строк: «Как собака на цепи тяжелой, / Тявкает за лесом пулемет, / И жужжат шрапнели, словно пчелы, / Собирая ярко-красный мед…». Не могли прийтись ко двору и строки, в которых поэт говорит о себе в третьем лице: «Знал он муки голода и жажды, / Сон тревожный, бесконечный путь, / Но святой Георгий тронул дважды / Пулею нетронутую грудь…» Его пытались просто вычеркнуть из истории литературы, не учитывая при этом, что приказное забвение чаще всего оборачивается посмертной славой.
«На лбу высоком человечества / Войны холодные ладони», как много позднее писал Осип Мандельштам, многих творческих личностей привели к немоте, но иных пробудили к не свойственным им прежде откровениям. В этом смысле удивительную метаморфозу пережил футурист Алексей Крученых — знаменитый изобретатель поэтической «зауми». Большинство современников воспринимали его словесно-фонетические игры типа «Дыр бул щыл/убещур/вы со бу/р л эз» либо юмористически, либо как законченный бред. Сейчас, правда, об этих опытах написано множество статей, авторы которых отыскивают скрытый смысл и чуть ли не философское содержание.
Жонглировать буквами вообще-то никому не возбраняется, но даже такой мистификатор и экспериментатор, как Крученых, под влиянием военных стрессов вдруг создал подлинный шедевр всего из двух строк: «С закрытыми глазами видел пулю / Она тихонько кралась к поцелую».
Двустишие это появилось в качестве подписи к одной из литографий Ольги Розановой, собранных в папке под всеобъемлющим названием «Война». Одна из «амазонок авангарда» передала в этой графической серии ужасы происходящего в непривычной тогда и многими отвергаемой манере супрематизма. Художницу связывали с Крученых не только художественные, но и близкие человеческие отношения, от него она переняла увлечение «заумью» и сама сочиняла стихи в этом стиле, но в «военной» серии вплотную подошла к «зауми» графической, будучи, кажется, убежденной, что реализм в этом случае бессилен.
«Военные» или, скорее, антивоенные графические листы Розановой появились через два года после убийства австрийского эрц-герцога Фердинанда в Сараево. Работая резцом, она в некотором роде вступила в полемику с другой знаменитой авангардисткой — Наталией Гончаровой, которая вскоре после первых залпов августовских пушек 1914 года создала серию линогравюр «Мистические образы войны». Разница в подходах и в решении темы связана и с временным разрывом между появлением серий, и с художественным мировоззрением авторов. Суть подхода Гончаровой я бы рискнул выразить как страдание ради спасения, Розанова же изображает ужасы ради полного их отрицания, независимо от того, чем они вызваны, правда, с заметным упором на злодеяния германцев.
Разночтения двух художниц нетрудно объяснить. Гончарова работала над серией в первые месяцы войны, в пору единения общества в духе новосатириконовской декларации намерений. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть перечень названий графических листов: «Святой Георгий Победоносец», «Пересвет и Ослябя», «Христово воинство», «Ангелы и аэропланы»… Не забыла она и союзников России, посвятив отдельные гравюры символике стран Антанты — «Английский Лев», «Французский Петух». Да и выполнены ее творения под заметным влиянием народных лубочных картинок, которыми в ту пору увлекалась художница, явно видевшая свою задачу в возвышении патриотизма.
Даже в одном из самых мрачных листов серии «Конь блед», навеянном знаменитыми строками из Апокалипсиса: «И я взглянул, и вот конь бледный и на нем всадник, и имя ему Смерть, и ад следовал за ним.», она, как представляется, находит в изображенном аду надежду на будущие просветления. Зато Розанова самой изобразительной манерой делает ставку на подчеркивание безысходного абсурда происходящего.
Лубок, кстати сказать, был близок и соратнику обеих «амазонок» по лагерю авангардистов Казимиру Малевичу, отметившемуся в изобразительном наследии войны серией открыток-агиток с текстами типа «Шел австриец в Радзивиллы, да попал на бабьи вилы».
Казимир Малевич

К несчастью, шедевры русского авангарда на темы Мировой войны на десятилетия угодили в тень забвения. Причина тому и пренебрежение официальной идеологией новых путей художественного творчества, и ранняя смерть Розановой, и эмиграция Гончаровой, хотя покинула она Россию еще до революции, будучи приглашенной Дягилевым в Париж для участия в его «Русских сезонах»…
Графике по самой природе этого искусства проще и быстрее удается откликаться на злобу дня, чем живописи, требующей куда больших временных затрат. Отсюда и относительно позднее появление лучшего, пожалуй, живописного отклика на войну, принадлежащего кисти Кузьмы Петрова-Водкина. Его огромное полотно «На линии огня», впервые и сенсационно показанное на одной из выставок 1916 года, тогда же разошлось по стране во множестве репродукций. Картину многие тогда восприняли антитезой накопившемуся тогда в России всеобщему разочарованию в войне. Офицер, роняющий саблю после смертельного ранения в грудь, цепь солдат, бегущих в атаку, ощерясь штыками, на фоне бескрайней холмистой равнины, над которой зависли не то белые тучи, не то облачноподобные следы разрывов шрапнельных снарядов, воистину призывала к ратному подвигу, пусть даже и ценой собственной жизни.
Картина эта воспринималась во время ее первого показа подобно реквиему кадровому русскому офицерству, жестоко пострадавшему на фронтах в первые месяцы и годы войны. Безоглядный героизм был таков, что Николаю II пришлось даже обращаться к тогдашнему комсоставу с чем-то вроде напутствия беречь жизнь ради Отечества.
Что же касается шедевра Петрова-Водкина, то его постигла та же участь, что и графики Гончаровой с Розановой. Картина почти на шесть десятков лет упряталась в запасники, хотя воистину планетарный взгляд на события, впервые с такой силой проявившийся в этом холсте, ожил в куда более известной его работе 1928 года — «Смерть комиссара». Трудно сказать, в какой из картин художник был более искренним. Думается, ни в том, ни в другом случае он душой не кривил. Каждый из его героев погибал за свою Россию, за свое понимание ее судьбы…
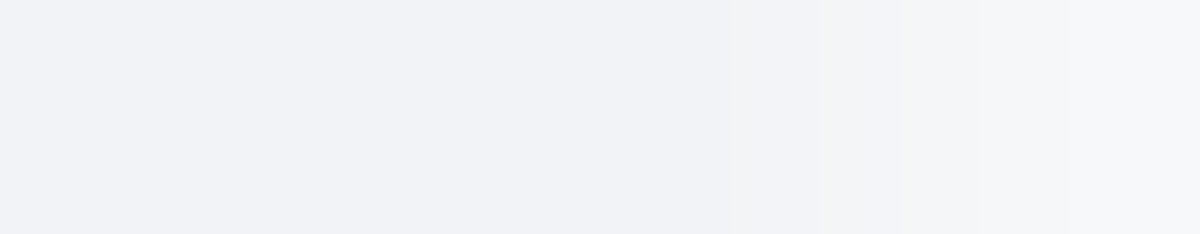
 Н. Гончарова «Конь блед»
Н. Гончарова «Конь блед»
 10546
10546






