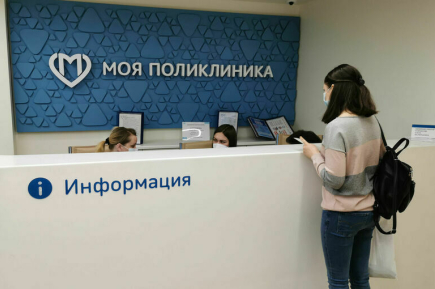Закон-декларация, не ставший «рабочей лошадкой»
25 лет назад, 26 апреля 1991 года, Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реабилитации репрессированных народов».

Одни считают его большим достижением на пути к демократизации российского общества, другие — катализатором процессов раскола общества начала 90-х годов.
«Это важный закон, — говорит экс-министр по делам национальностей, ныне замдиректора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин. — Он был принят на излете СССР, когда все стремились исправить ошибки сталинизма. В новых исторических условиях закон еще раз подтвердил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1956 года о политической реабилитации репрессированных народов».
Закон поставил точку в признании государством ошибки в своих действиях и дал гарантию неповторения их в будущем. Помимо этого, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН Валерий Степанов считает, что закон внес в общественное сознание мысль о неприемлемости совершения каких-либо массовых акций в отношении людей по любому групповому признаку и утвердил аксиому: никто и никогда не имеет права распространять вину отдельных людей на весь народ, весь род и всю фамилию.
Так, благодаря изменению общественной атмосферы те же первая и вторая чеченские кампании уже не воспринимались россиянами как межнациональные конфликты. У россиян все же доминировало представление, что в основе «кавказской войны» лежит противостояние государству определенных сил, которые под конфессионально-этническим прикрытием и по подсказкам из-за рубежа преследуют свои корыстные интересы, угрожающие территориальной целостности России. И в том, надо признать, заслуга этого закона, которая, по мнению специалистов, компенсирует целый ряд его недостатков. И в частности то, что его скорее можно отнести не к «рабочим лошадкам», а к законам-декларациям.
Закон внес в общественное сознание мысль о неприемлемости совершения каких-либо массовых акций в отношении людей по любому групповому признаку»
«МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ»
Есть у закона и минусы. В силу декларативности он не был оснащен необходимыми механизмами для реализации. А кроме того, породил у своих адресатов неоправданные ожидания благодаря заложенной в статье 6 «мине замедленного действия». В ней идет речь о восстановлении национально-территориальных границ, существовавших до их «антиконституционного насильственного изменения». На первый взгляд, намерение справедливо. Но оно совершенно не учитывает новые реалии, к которым привело движение населения и изменение его состава. Механическое возвращение одних людей на прежние места жительства неизбежно нарушает права других, уже не один десяток лет проживающих на этой территории.
Эксперты считают, что закон в определенной степени способствовал и неуправляемому развитию событий осенью 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, где произошли столкновения с ингушской стороной. Это единственный на постсоветском пространстве конфликт, который в чистом виде можно назвать межнациональным. Требования о возврате территории звучали и раньше, но закон подвел под них юридическую базу. В вооруженном противостоянии погибли 600 человек… Это пример, как важно выверять в правовом акте каждую мысль, слово и запятую, ибо за лихие кавалерийские наскоки в законотворчестве реальные люди платят своей кровью.
Непроработанность закона дала о себе знать сразу же. Научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков вспоминает: «В 1992 году я в качестве министра по делам национальностей РФ докладывал депутатам о реализации закона. Отметил его дефекты и слабости. На меня покатили бочку: «Ваше дело исполнять, а то мы на вас дело заведем». Борис Ельцин с Гельмутом Колем тогда подписал меморандум, где прямо говорилось о восстановлении государства или республики немцев Поволжья. Мне поручили это сделать. А как? Невозможно. Кто виноват? Законодатели и их правовое обеспечение. В числе спорных также статьи 6 и 4 о привлечении к ответственности за «агитацию или пропаганду» в целях воспрепятствования реабилитации репрессированных народов.
Каждый документ несет на себе отпечаток эпохи, в которой он принимался. Эмоции в начале 90-х били через край. Парламентариев пьянил воздух свободы. В нем носились мечты о самоуправляемости каждой территории, о приватизации в широком смысле, в том числе и власти. Сыграло свою роль и то, что закон создавался в парадигме советского представления о разделении народа на республиканские нации, а не граждан одного государства. Отсюда, с одной стороны, упоминания о «равных правах» народов, что в мировой юриспруденции воспринималось анахронизмом. С другой — в нем нашли отражение зачатки современного, гражданского подхода, выразившиеся в зачислении казачества в число репрессированных народов.
Примерно в то же время шла работа над законом «О реабилитации жертв политических репрессий», принятым через полгода, а в 1993 году поправкой в закон №1107-1 его действие распространили на депортированных лиц. Уникальность ситуации в том, что они на одну тему, но выражают различные юридические взгляды: один ориентируется на неопределенную группу людей, а второй — на отдельных граждан. Собственно, в таком тандеме практически и реализуется закон о репрессированных народах.
Кстати, недавняя инициатива председателя президиума Российского конгресса народов Кавказа Алия Тоторкулова о введении административной ответственности за оправдание депортации народов Кавказа вполне перекликается с 4-й статьей закона. Как это воспринимать? «Разумеется, позиция людей, которые оправдывают сталинские репрессии, заслуживает осуждения, — говорит Владимир Зорин. — Однако я убежден, что принятого государством документа, который дает правовую и моральную оценку такой политике, вполне достаточно. Если мы начнем вводить меры административной или уголовной ответственности за ошибочные взгляды, то уподобимся тем людям, которые вводили, например, закон на Украине об отрицании голодомора».
Оппоненты закона убеждены, что он был принят, чтобы подхлестнуть «обиженную этничность» и стравить народы для разгрома СССР. При его обсуждении встает тема о причинах и мотивах репрессий, что подливает керосина в огонь.
ФАКТОР ЭТНИЧНОСТИ
Еще одной взрывоопасной статьей замдиректора ИЭА РАН Роман Старченко называет статью 11 о культурной реабилитации, включающей замену топонимики: «Вопрос очень деликатный, а он будет непременно поднят после издания Указа Президента РФ о реабилитации крымских народов. Значит, нужно либо механизм конкретный прописать, либо предложить параллельные названия (что де-факто на полуострове уже имеет место), и только на основе общественного консенсуса. Одно дело — поставить рядом две таблички с настоящим и прежним названиями, как в городе Энгельс Саратовской области, другое — все перевести на немецкий язык, как в Азовском районе Омской области в 90-е годы… что вызвало негативную реакцию местного населения».
Фактор этничности в повестке дня вышел на первое место и используется как инструмент расшатывания ситуации в России. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Института этнологии и антропологии РАН констатирует, что определенные оппозиционные силы пытаются использовать этничность для реализации своих политических интересов. «В этом отношении предстоящие выборы в Госдуму вызывают определенную тревогу, — замечает Владимир Зорин. — Сейчас перед властью стоит важная задача — не допустить, чтобы этническая мобилизация и этнический фактор стали предметом дешевых популистских игр. Одна из главных целей Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года — содействие формированию российской общегражданской нации и поддержка этнокультурного развития всех народов».

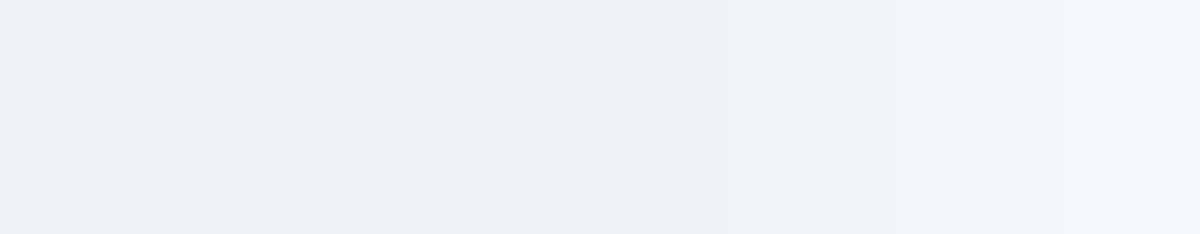

 10017
10017