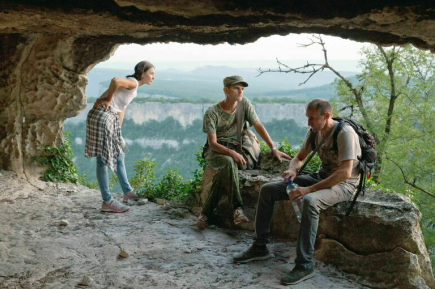Общественный контроль
18 июня в Госдуме состоится второе чтение законопроекта «Об основах общественного контроля в РФ».
Тогда и будет понятно, насколько изменился документ, к которому высказано немало претензий участниками проведенного 26 мая Комитетом ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций «круглого стола»

Диалог общества и власти
Законопроект, принятый в первом чтении 23 апреля, получил значительный общественный резонанс. Инициировала его Общественная палата (ОП) РФ, а внес в Госдуму Президент России. Смысл его в повышении предметности, открытости и конструктивности диалога между обществом и властью на всех уровнях. Устанавливаются правовые основы организации и осуществления общественного контроля за функционированием органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций с публичными полномочиями, определяются его субъекты и ответственность госорганов и должностных лиц за воспрепятствование проверочным действиям.
Право осуществлять контроль получат Общественные палаты субъектов РФ, ОП (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах исполнительной власти субъектов РФ.
При общем взгляде на документ сомнений в его полезности и демократическом потенциале нет. Он предусматривает открытый перечень форм осуществления общественного контроля — мониторинг, проверка, экспертиза, обсуждение, публичные слушания (опускаю эпитет «общественный»). Все эти формы участия в управлении государством позволяют на стадии принятия законов, а затем их исполнения и оценки выявлять противоречащие интересам граждан действия и требовать их корректировки. В Послании Федеральному собранию в декабре 2013 года Владимир Путин прямо сказал: «Все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества».
Перед законом стоят три задачи: придать общественному контролю системность, обеспечить защиту от злоупотреблений им и снизить уровень злоупотреблений и ошибок в деятельности органов госвласти.
— Сегодня вместо эпизодических привлечений экспертных групп к законодательной деятельности приходит новая публичная политика, основанная на общественной экспертной поддержке и контроле выработки управленческих решений, — заявила зампред Госдумы Людмила Швецова. — Возникает система электронной демократии, использующая современные средства коммуникаций для мониторинга деятельности власти.
Что касается законопроекта, то он, по мнению вице-спикера, нуждается в доработке. У нее, в частности, вызывает вопросы выпадение из списка субъектов контроля граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Любопытно, что в действующем ФЗ-3 о полиции граждане являются субъектом общественного контроля. Получается, что теперь сделан шаг назад к охранительным тенденциям?
Это один из самых дискуссионных вопросов. Почему особый правовой статус получили только ОП и общественные советы при исполнительных органах федеральной власти? Последние нередко бывают «карманными», поскольку кандидатуры в них подбирают сами органы. В законе сделана попытка поправить положение, поручив формирование их состава Общественной палате РФ. Учитывая объем работы (в каждом субъекте РФ до 40-50 представительств федеральных органов), председатель ОП Республики Башкортостан Рамиль Ба-гинов предложил делегировать данное полномочие региональным ОП.
Но даже в этом случае остается вопрос: как встроить в систему контроля граждан, НКО, общественные организации и объединения? Четыре года назад ответ из недр исполнительной власти был таков: контролировать должны профессионалы, поэтому необходимы квалификационные профессиональные требования. Да и вообще предлагалось вместо нового закона внести правки в ФЗ об обращениях граждан и ФЗ об Общественной палате.
Логика разработчиков исходит из того, что во избежание анархичности участие граждан в общественном контроле должно проходить через некие организационно-правовые формы. Иначе говоря, их в качестве общественных контролеров, инспекторов и экспертов будут привлекать субъекты общественного контроля.
Некоммерческим организациям предложен компромисс: сотрудничать через привлечение их субъектами общественного контроля, как практикуется с законом об общественном контроле в местах принудительного содержания, и через приглашение индивидуальных экспертов, аккредитованных при ОП федерального и регионального уровня. Палаты и советы станут своего рода фильтром и для правозащитных НКО, заинтересованных в том, чтобы их материалы получили статус официальных результатов общественного контроля. Не знаю, как лично граждане, но НКО «идти под Общественные палаты и советы» желанием не горят.
Эксперт ОП города Москвы Людмила Ильичева пошла дальше. Она обратила внимание на то, что существующий порядок формирования региональных и муниципальных Общественных палат, а также возложение обязанностей по обеспечению их деятельности преимущественно на местные органы власти препятствует реализации принципа независимости и самостоятельности субъектов общественного контроля.
Контроль — не конфронтация
Механизмы заявительных форм в общественном контроле, на чём настаивали некоторые участники законотворческого процесса, поддержки не получили. Видимо, еще рано. Вспомнили не оправдавший себя либеральный подход в законе о декриминализации экономических преступлений, правоприменение которого выявило несознательность бизнесменов, не платящих штрафы и уклоняющихся от возмещения ущерба. Так что споры между представителями госорганов и некоммерческих организаций о поиске баланса доверия и ответственности продолжаются.
В законотворчестве активно участвовал Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Его председатель Михаил Федотов достоинство законопроекта видит в создании им правовой связи между 32-й статьей Конституции РФ и отдельными законодательными актами, так или иначе регламентирующими общественный контроль. Вместе с тем главный правозащитник России посетовал на то, что в документе не получили необходимого развития элементы электронной демократии, через которую любой гражданин легко подключается к процессу общественного контроля. С помощью этого инструмента сегодня формируется федеральная Общественная палата. Чистоту интернет-голосования, убежден он, можно обеспечить за счет регистрации и открытия аккаунта в системе «Госуслуги.ру».
Впрочем, не так все однозначно. Не зря же в последнее время возникли разговоры о накрутке голосов во время выдвижения кандидатов в члены ОП РФ. Председатель Комиссии по вопросам развития гражданского общества ОП РФ Иосиф Дискин инициативы, одобренные 100 тысячами голосов на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива», назвал «смесью личных амбиций и подрывных тенденций». И назвал две опасности, которых нужно избежать. Первая — отсутствие у контролирующих профессионализма, вторая — ангажированность частными (ведомственными, локальными или корыстными) интересами. Преодолеть их, считает он, можно лишь на базе широких общественных коалиций.
Принципиально важно, на его взгляд, возвращение при втором чтении в текст выпавшей правовой формулы об общественных интересах, в защиту которых осуществляется общественный контроль.
Из-за активной позиции представителей либеральных воззрений дискуссия время от времени кренилась в сторону чистого правозащитничества, и модератор постоянно выправлял курс на столбовую дорогу. Содержание ее емко определил на прошедшем ранее «круглом столе» в Совете Федерации зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Константин Добрынин: «Только от нас зависит, что у нас будет — общественный контроль или контроль общества со стороны псевдообщественных организаций».
Один из участников обсуждения к месту напомнил, что общественный контроль гражданского общества вовсе не противостоит государственному строю, а напротив, в идеале призван содействовать его укреплению и защите интересов страны. Забвение этого постулата сказалось даже на сужении самого понимания функций общественного контроля, ограниченных в законопроекте целями наблюдения за действиями органов госвласти и их публичной оценкой. Между тем наблюдение, проверка и анализ лишь средства, но никак не цель. Из поля зрения авторов выпал контроль за обеспечением соблюдения стандартов и норм качества, определяемых при реализации устанавливаемых общественных интересов.
Проверять, но не раскачивать
Первый замруководителя Федеральной службы исполнения наказания Анатолий Рудый оценил законопроект как достаточно интересный, но выразил недоумение по поводу понятия «совместные мероприятия». Общественные экспертизы, состав их участников, алгоритм их проведения, порядок взаимодействия с правоохранителями, сказал он, должны быть прописаны очень четко. Второе его замечание касалось необходимости законодательного предупреждения «заинтересованности» представителей отдельных организаций, для которых проверки становятся источником дохода.
«Мы, — откровенно поведал он, — не рассматриваем расширение состава общественных организаций, уже работающих с нами, однако очень хотели бы, чтобы они повысили свою эффективность. Общественный контроль для нас — возможность объективно понимать и оценивать положение дел в службе, чтобы своевременно принимать правильные управленческие и административные решения для исправления недостатков. В то же время контролеры должны быть квалифицированными и иметь подтверждение своей подготовленности. А с учетом политической ситуации в мире следует предусмотреть отсутствие у проверяющих иностранного гражданства, чтобы они не раскачивали нам обстановку в местах лишения свободы».
Просьба была высказана довольно извинительным тоном, хотя, на мой взгляд, вполне правомерна. Да, закон обязан предусмотреть и защиту от недобросовестных общественных контролеров, прописав порядок профилактики, выявления и предотвращения конфликта интересов и личной мотивированности при осуществлении проверок. Напротив, первый замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб акцентировал необходимость зафиксировать в законе ответственность чиновников за воспрепятствование общественному контролю. Отсутствие в законе определения понятия «необоснованное вмешательство» и четко очерченного круга полномочий проверяющих чревато нежелательными коллизиями. Предлагалось подумать и над тем, насколько продуктивно участие одного и того же гражданского активиста в десятке общественных организаций в плане выполнения им взятых на себя обязанностей.
Большой интерес представляли собой выступления делегатов из регионов. Там очень ждут принятия этого закона. Выстраданным назвал его председатель ОП Челябинской области Вячеслав Скворцов, который надеется, что он поможет сконцентрировать и сбалансировать все направления общественной работы, цивилизовать диалог с властными структурами. «У нас возникали конфликты в ходе проверок, особенно с правоохранительными органами. Попытка оценить деятельность председателя областного суда привела к обыскам и даже арестам членов региональной Общественной палаты».
Зампред ОП Саратовской области Валентина Богданова акцентировала внимание на закреплении в законопроекте статьи об ответственности за неисполнение требований субъектов общественного контроля. Перечень последних, на ее взгляд, целесообразно расширить за счет общественных советов при законодательных органах власти. Член ОП РФ Антон Цветков убежден, что принимаемый закон повлечет появление профильных законов по разным видам общественного контроля, аналогичных ФЗ-76. Ждет общественной оценки положение дел в сферах экологии, здравоохранения (поликлиники, больницы). Другими участниками ставился вопрос о передаче под контроль НКО центров содержания иностранных граждан, детских домов, социальных интернатов…
Итак, с появлением этого закона тема общественного контроля, ранее присутствовавшая в Российском законодательстве фрагментарно, обретает некую, пусть пока и незавершенную системность. Новый закон — рамочный, и принятие его вызовет цепную реакцию изменения порядка 30 действующих нормативно-правовых актов, — сообщил председательствующий на заседании глава профильного комитета ГД Ярослав Нилов. Наличие в нем отсылочных норм кого-то разочаровало. Эксперт Совета при Президенте РФ по правам человека Валентин Гефтер не в восторге от самого духа закона, который, по его мнению, не заставит серьезно реагировать на общественный контроль чиновников государственных и муниципальных органов. Зато Владимир Жириновский, не цепляясь за огрехи документа, на конкретных фактах продемонстрировал пагубность отсутствия института общественного контроля. Именно с этим он связал «подкашливание» участников дискуссии в зале из-за чрезмерного кондиционирования, объяснив, что за условиями работы россиян некому следить. Перейдя от частного к общему, лидер ЛДПР подчеркнул, что в общественном контроле нуждаются все сферы жизни социума, начиная от использования русского языка, кончая обращением лекарств и работой СМИ.
Множество высказанных замечаний продемонстрировало сыроватость законопроекта. Хотелось бы надеяться, что ко второму чтению его подсушат. Закон об общественном контроле в его нынешнем, почти зачаточном состоянии, это, конечно, еще не щука, которая принудит карася власти не дремать. Но нелепо отрицать, что на пути к осуществлению гражданским обществом самого широкого контроля за деятельностью государства сделан первый многообещающий шаг, каким бы осторожным или даже неловким он ни казался. Исходя из этого, большинство участников «круглого стола» и высказалось за его принятие.


 5329
5329