Лён — воспоминания о будущем
По четырем областям России и одной области Беларуси пролег маршрут пресс-тура российских и белорусских журналистов «Лён Союзного государства: древняя культура будущего».
Тысячи километров пути, льнокомбинаты, льнозаводы, научно-исследовательские институты, встречи с учеными, производственниками и бизнесменами. Практически все были в курсе, что организаторы пресс-тура ждут от журналистов объективного взгляда на реальность и мнений, способных повлиять на готовящуюся межгосударственную программу развития льняной отрасли…

Зачем он нужен — этот лён?! Подобного рода вопрос многим и справедливо покажется абсурдным, но он звучал и во время нашего пресс-тура, и… намного раньше — еще во времена СССР. Один из моих коллег на полном серьезе спросил на пресс-конференции в Твери, а стоит ли вообще с этой капризной культурой возиться? Российские ее угодья в основном, если не в полной мере, расположены в зоне рискованного земледелия. Вырастет — не вырастет, созреет или уйдет под снег?
Подобная непредсказуемость в свое время во многом сказалась на выработке стратегии Минсельхоза СССР, отдававшего предпочтение хлопку Средней Азии. Хлопчатник к водолюбивым культурам не отнесешь, но всухую его все же не вырастить, так что печально знаменитый и, к счастью, отвергнутый проект переброски на среднеазиатский юг северных рек настойчиво продвигался «азиатским», так сказать, лобби в ЦК КПСС еще и под соусом достижения хлопковой независимости.
Между тем, в последние годы существования СССР осыпаемые дотациями тамошние земледельцы уже не могли справиться, говоря словами Маяковского, с «планов громадьем», хотя порой даже вырубали в угоду своей монокультуре фруктовые сады. В «городе невест» Иваново, куда я в 1985 году приезжал в командировку, мне показали вагон с хлопком, только что прибывший из Узбекистана. Содержимое его, по меньшей мере, на четверть состояло из чего угодно, но только не из хлопка: союзная республика щедро отгружала откровенный мусор, включая песок, щебенку и даже булыжники…
Сейчас кое в чем среднеазиатские производители выигрывают за счет цен на отдельные виды продукции. Генеральный директор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко сказал мне по локальному, правда, поводу, что тонна короткого льноволокна, пригодного для производства ваты, обходится в 800 долларов, а тонна узбекского хлопка идет практически по той же цене. Но лён надо еще и переработать, а хлопок — практически готовая вата.
Кто-то опять же скажет, что главное в конкретной выгоде. И по логике сподвижников незабвенного Тимурыча и его лихой команды будет прав. Но. ситуация в том же Узбекистане далека от стабильности. Он может продать волокно, а может заняться переработкой и сам, что, впрочем, уже делает. На тот же узбекский хлопок может окончательно наложить руку Китай, который явно ведет курс к монополизации на рынке сырья… На хлопковом Ближнем Востоке вообще Бог весть что творится. Словом, лён привередлив, недешев, непрост, но зато всегда с нами. Остается заинтересовать льноводов, но с этим не всегда просто.
При этом ведущий, пожалуй, потребитель текстиля в лице Министерства обороны РФ до недавнего времени льна попросту чурался. За время пресс-тура я не раз слышал, что при нахождении в главном военном кресле оскандалившегося министра Сердюкова его подчиненные от предложений перейти с хлопка на лён просто отмахивались, изобретая предлоги типа, что льняные ткани якобы «холодят». С приходом к руководству Сергея Шойгу ситуация стала меняться. В конце концов, лучше тратить деньги на дотации своим промышленникам и аграрникам, чем отдавать их самостоятельным ныне государствам невесть какой степени дружественности.
Добавлю в ту же тему, что проблемы с хлопком после распада СССР чуть ли не обезоружили страну! Армия в буквальном смысле слова оставалась почти без пороха и всего, что с ним связано. Кому-то из «профессиональных демократов» типа Новодворской и Алексеевой это может быть и в радость. А стране?! Сейчас успешно опробованы и задействованы технологии получения порохов на основе льноволокна. И как при всем при этом без него обойтись?.. Тут уж не о верности традициям разговор, а о государственных Интересах с большой буквы.
Так что без государственной поддержки льноотрасли не обойтись. Запад в этом смысле, несмотря на ВТО, свои интересы блюдет и своих фермеров не забывает. Франция подбрасывает своим льноводам порядка 700900 евро на гектар. В России финансовая подпитка вдвое меньше.
В пору СССР у нас было семь льнокомбинатов. Сегодня осталось в России, по сути дела, два — в Костроме и в Вологде. С ними достойно сосуществует и комбинат в белорусской Орше, являющийся крупнейшим в Европе производителем льняных тканей. Формально имеется еще знаменитый в недалеком прошлом комбинат в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Но он не столько действует, сколько существует. В ткацкий цех нашу пресс-группу не повели, сославшись на недоступность из-за ремонта улиц, но в швейном мы все же побывали. Салфетки и полотенца слетали из-под иголок стремительно, но оптимизма в высказываниях швей не наблюдалось.
Работниц на этом всегда востребованном производстве за последние годы стало меньше в пять-шесть раз, а доход их не превышает 8 тысяч рублей вместе с налогами. Что касается зарплаты, то столичный предприниматель, всерьез заинтересованный в будущем комбината, философски выразился в разговоре с нами, что в Гаврилов-Яме это реальная такса за подобный труд. Городу и впрямь не позавидуешь — те из его жителей, кто молод и энергичен, метят в Москву и в Ярославль, остальным особо деваться некуда.
Главная проблема в том, что собственниками знаменитого некогда предприятия оказались бизнес-структуры небезызвестного Дерипаски и администрация области. Разобраться в претензиях они никак не могут, а всем известно, у кого чубы трещат, когда паны ссорятся. Представитель областных властей жестко выразился в адрес бизнес-оппонентов в том смысле, что надо думать, на что идешь, когда покупаешь градообразующее предприятие. С истиной не поспоришь, но кто у нас особо думал, когда хватал все, что плохо лежит в пору ураганных распродаж госсобственности?
Частный бизнес, в общем и в целом, все же не дремлет. При этом хлопот не боится. Взять тот же Гаврилов-Ям. В нем появилось маленькое, но, рискну сказать, удаленькое дело, рентабельность которого по отдельным показателям превышает 100 процентов! Речь о льняном масле, которое издревле считалось целебным. В этой связи вспоминаю одного из первых у нас новых радетелей льняного масла, с которым я как-то познакомился на международной выставке «Российский лён», ежегодно проходящей в Вологде. Леонид Григорьевич Болобан по воинскому званию полковник запаса, и не раз ходил в атаку… на многих российских вице-премьеров, министров и их замов. И те, и другие, и третьи регулярно приезжали на вологодские льняные выставки, раздавали обещания и, по странной закономерности, вскоре оказывались в отставке, перемещаясь нередко в кабинеты директоров крупных корпораций. Болобан же возвращался в свой городок Кашин Тверской области и наперекор бюрократам регулярно добивался не только приличных урожаев льна, но и урожаев медалей на российских и международных выставок за масло и многие его производные.
Секрет природного полибальзама в невероятно высоком по сравнению с другими растительными маслами содержании линолевой кислоты, именуемой также «Омега-3», и линоленовой кислоты «Омега-6». Эти две «Омеги» вкупе с другими благотворными ингредиентами способны смягчать опасность атеросклероза, помогать при сахарном диабете, избавлять от аллергий, выручать при болезнях желудка и даже уменьшать риск возникновения злокачественных опухолей. А в придачу к тому в предприятии Болобана создана еще целая серия кремов, в частности, омолаживающих кожу, спасающих от обморожений и ожогов…
На мой вопрос о сегодняшнем состоянии этого бизнеса представитель Тверской администрации ответил, что были разговоры о специальной программе, напрямую связанной с работой Болобана, но пока что разговорами и ограничились.
Говоря об энтузиастах, нельзя обойти и трех череповецких бизнесменов, начинавших с недвижимости, а пришедших к тому, чтобы вытащить из бездонной ямы разорения Шекснинский льнозавод в Вологодской области. Когда-то завод славился показателями, но фанфары стихли, а пришло уныние. Теперь же недавнее запустение, кажется, позади. Новые владельцы взялись и за выращивание льна. Кроме волокна, завод, реорганизованный в Агропромышленную корпорацию «Вологодчина» успешно выпускает и, главное, успешно продает в Европу льняную вату. При этом, по словам директора по стратегическому планированию и развитию Данила Егорова, шекснинцам удалось обойти на несколько лет даже немцев.
Другие плюсы в том, что с территории исчезли горы отходов, состоявшие в основном из льняной костры. Эти древоподобные фрагменты стеблей, остающиеся после переработки тресты на волокно, прежде шли в основном в топку котельной. В Шексне взялись было за выпуск из костры топливных пеллетов, но многих покупателей смущала высокая зольность. Тогда костру успешно попробовали приспособить под наполнители для кошачьих туалетов. В качестве испытателей привлекли несколько сот кошколюбов и убедились, что «усатые-полосатые» создания новинке очень даже рады. Потом нашлось еще один экспортный вариант. Некие партнеры в Эстонии наладили контакты с «Вологодчиной» якобы ради использования костры на топливо. Потом оказалось, что хитроумные прибалты просто переправляли товар во Францию, где кострой посыпают полы конюшен и лошадиных загонов. Костра бактерицидна, и потому очень даже во благо копытам лошадей.
Но если у Гаврилов-Ямского комбината надежды все же есть, то Красавинский льнокомбинат, располагавшийся неподалеку от Великого Устюга, похоже, вообще и навсегда почил в «льняной бозе». Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, отвечая на мой вопрос, категорично сказал, что реанимировать старейшее текстильное предприятие региона удастся ценой примерно двух с лишним миллиардов рублей. Таких расходов Вологодчина позволить себе не может. Пригодное к использованию оборудование для жаккардовых тканей перевезли в Вологду, а вероятную социальную напряженность власти намерены смягчить благодаря запуску уникального производства по выпуску замороженных ягод и грибов, мощность которого должна достигнуть 50 тысяч тонн в год при полутора тысячах рабочих мест.
Все это само по себе прекрасно, но притом очень уж грустно. Красавинский комбинат, основанный еще в XIX веке купцом Грибановым, многие десятилетия считался гордостью текстильной промышленности СССР, но в девяностые годы пошел по рукам, а руки эти в конечном итоге довели его до ручки.
Впервые я оказался на комбинате еще в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда одна из заслуженных красавинских ткачих, заседавшая без полного отрыва от основной работы в Верховном Совете РСФСР, заявила с высокой трибуны, что ее коллеги готовы завалить страну махровыми полотенцами, но на существующем оборудовании этого сделать не смогут. Вскоре после этого выступления на комбинат пришло полдюжины официальных писем из разных министерств и ведомств, в каждом из которых говорилось нечто типа «потерпите еще год-другой, и мы вас оснастим». Стоит ли говорить, что все заявленные сроки оказались блефом.
Выслушав все это, я спросил тогдашнего директора, а почему «махровую тему» не поднимали раньше. Оказалось, что все предшествующие годы СССР завален был текстилем с берегов Нила. Но после провала в 1973 году попытки египтян взять реванш в противостоянии с Израилем Анвар Садат перебежал под американскую опеку, долги за Асуанскую ГЭС и за оружие оказались замороженными, а простые советские граждане остались без махровых приятностей в быту.
Сейчас два самых успешных льнокомбината Союзного государства в Вологде и Орше работают опять же на импортном ткацком оборудовании. В обозримом будущем с этим ничего не поделаешь. Но прежде чем выпустить ткань, надо вырастить и собрать лён, получить волокно, а с техникой для этого очень непросто. Побывав в Твери на демонстрационной площадке Всероссийского научно-исследовательского института механизации льноводства, я мог убедиться, что промышленных образцов создано предостаточно. Директор этого НИИ Михаил Ковалев уверенно говорит, что институт создал необходимые механизмы для всего процесса выращивания льна, и сомневаться в его словах не приходится. Однако на полях их немного, и прежде всего потому, что машиностроение в России в том состоянии, которое благополучным не назовешь. С одной стороны, положение спасает частично Беларусь, сохранившая эту сферу промышленности. С другой — у аграрников зачастую попросту нет денег на закупку техники. Очевидно, необходимо решать проблему льготного кредитования, поскольку окупается подобное оборудование очень уж медленно.
От машин во многом зависит качество волокна, а с этим тоже непросто и небезукоризненно. Генеральный директор «Вологодского текстиля» Николай Алексов на моих глазах продемонстрировал разницу между вологодским льноволокном и бельгийским. Не надо быть специалистом, чтобы определить, какое лучше. И дело не в визуальном подходе — бельгийское сырье гарантирует куда больший выход ткани, да и оборудование европейского производства с волокном отечественного качества мириться не хочет. В итоге комбинат на 80 процентов ориентируется на фермеров из Западной Европы. В Орше ситуация обратная: комбинат закупает импортное волокно лишь в неурожайные годы, а в основном работает полностью на белорусском волокне.
У каждого из этих уважаемых и уверенно чувствующих себя на всех рынках производств есть общая черта — каждое из них обрело блеск, лоск и высочайший уровень качества выпускаемого товара при серьезной поддержке государства, как в Орше, при опять же решающей подпитке из областного бюджета, как в Вологде. Сейчас тяжкие времена позади, но без 2 миллиардов 400 миллионов рублей областной поддержки предприятие не возродилось бы.
Не удержалось бы на плаву и знаменитое по всему миру искусство плетения вологодских кружев, с давних времен нередко именовавшихся «нетающим инеем». В наше время мало кто вспоминает или задумывается над тем, что кружева, как и льняные ткани, едва ли не самые первые экспортные товары Руси, двинувшиеся на Запад морским путем вокруг Скандинавии. С тех самых пор, когда английские моряки под командованием Ченслера по ошибке заплыли в Белое море и через Вологду добрались в Москву, ко двору Ивана Грозного, после чего царь отправил в Лондон первое посольство во главе с вологжанином Непеей, и возник льняной «мост» между «туманным Альбионом» и краем белых ночей. Понятно, что деловитых англичан больше интересовали холсты для парусов и пенька для корабельных канатов, но к невесомому кружевному узорочью британцы тоже не остались равнодушными.
Совсем недавно слава кружев монопольно связана была с объединением «Снежинка», получившим название по знаменитой полвека назад скатерти.
Плели ее для международной выставки в болгарском Пловдиве, где прямо со стенда ее купил какой-то американец. Пришлось создавать кружева заново. Потом новая выставка, и вновь скатерти не суждено было вернуться на родину. И так больше десятка раз. Абсолютный рекорд, достойный «Книги рекордов Гиннесса», видимо, навсегда останется за панно «Россия», площадь которого 15 квадратных метров.
Увы, «Снежинка» рыночной жары не выдержала, хотя и сохранила пока что фирменную марку, но мастериц на ней осталось совсем немного, да возрастом они столь почтенны, что о светлом будущем уникального искусства говорить было бы трудно. К счастью, оказавшееся на грани угасания искусство оказалось под защитой «Вологодского текстиля», в одном из цехов которого создаются тонкой работы рукотворные прелести, выходящие в мир под маркой «Вологодская кружевница».
В старину умение передавалось от матерей к дочерям, от бабушек к внучкам. Позднее пришел черед фирменного профтехучилища, а в наши дни редкостную профессию можно получить в губернаторском колледже, претенденток на обучение в котором вполне достаточно. А вот со специалистами более массовых текстильных профессий дела обстоят отнюдь не радужно. Николай Алексов сказал мне, что считавшиеся в прошлом профильные вузы теперь зачастую готовят кого угодно, но не технологов-текстильщиков. Последним бастионом профессии пока что остается университет в Иваново. В этом году на «Вологодском текстиле» получат пополнение, которое уже успели приглядеть. Ждут на практику и сегодняшних четверокурсников. А больше ждать некого, ивановский вуз готовить кадры для текстильной промышленности больше не будет… Потому-то руководство фирмы и рассчитывает в этой связи на сотрудничество с Беларусью, в которой, видимо, и придется обучать инженеров для своих цехов.
И это лишь одно из направлений кооперации, на включение которого в будущую российско-белорусскую программу сотрудничества надеются российские льнопереработчики.
Мнений о программе за время поездки довелось выслушать немало, но наиболее емко свел их воедино директор белорусского Института льна, профессор Иван Голуб. Например, что, прежде всего, необходимо уделять серьезное внимание селекции и семеноводству, притом не дублируя, а дополняя друг друга. И у белорусских селекционеров, и у специалистов из института в российском Торжке в активе есть сорта не хуже, а лучше западных, так что весомый задел на грядущее существует. Другой блок тем связан с технологиями выращивания льна. Важнейшая проблема связана с техникой, здесь для совместных трудов простор необозримый. Далее следует вопрос переработки, и притом не просто на волокно, а углубленной, направленной на то, чтобы поменьше сырья уходило за рубеж.
Иван Антонович Голуб — аграрник, а потому проблемы ткачества и реализации для него не на первом месте. А в этом тоже программа способна помочь. Директор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко упомянул, что страны-конкуренты — та же Турция — в немалой степени помогают своим текстильщикам выходить на внешние рынки, даже компенсируя часть расходов на рекламу и содержание представительств. Московские же реалии вынуждают оршанцев открыть свое представительство не в самой столице, а в Люберцах. Более успешно удается работать через Иваново, где цены на аренду щадящи, но в другие города, и в Москву в том числе, их ткани попадут уже через посредников, что неминуемо повышает конечные цены…
Поэтому, не стоит ли подумать о создании в Москве межгосударственного Дома льна, где нашлось бы место и для моды, и для фирменной торговли? Ведь и в Беларуси, и в России почти все дружно говорили, что видят в коллегах по льну не конкурентов, а партнеров. Главное же в том, чтобы обдумываемая программа не утонула в формализме и не осталась на бумаге. Нам к подобному повороту событий не привыкать, но от привычек, мешающих делу, избавляться отнюдь не грех.


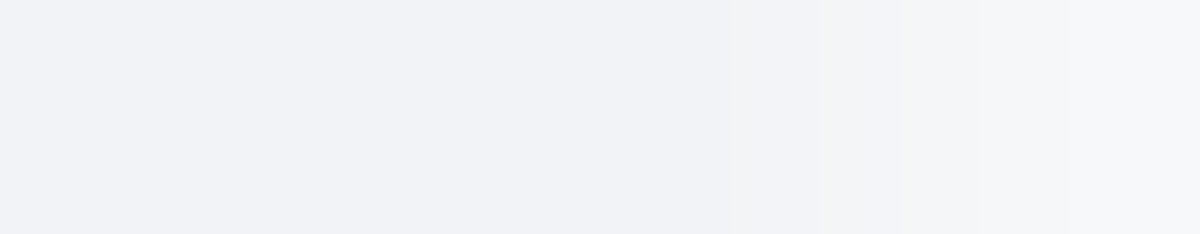

 14241
14241






