Но размах достигнутого неминуемо отодвигает поначалу на второй, а то и третий план многие эпизоды, без которых картина происходившего останется неполной. Этим десятилетиями остававшимися в тени фрагментам былого и был посвящен прошедший в Минске экспертно-медийный семинар «Малоизвестные страницы наступательной операции «Багратион». Эта встреча историков и журналистов завершила пресс-тур, организованный для представителей российской и белорусской прессы Постоянным Комитетом Союзного государства.
Выступления на семинаре и легли в основу этих заметок. Обо всем рассказать невозможно, я попытался остановиться хотя бы на отдельных деталях важнейших битв, окончательно освободивших Беларусь и открывших дорогу на Берлин.
Танки и бомбы деревянные, победа настоящая
Перед тем как во всю мощь заговорили пушки, на многих участках намечаемой операции вовсю стучали молотки. Плотницкое ремесло, которому, казалось бы, должен был прийти черед только после ухода фронта на Запад, а может быть, лишь после окончательной Победы, оказалось востребованным, как никогда прежде. В известной степени можно смело говорить о целой индустрии наглядной дезинформации, которую командование наступательной операцией развернуло на очень и очень недолгие сроки, стремясь отвлечь врага от квадратов истинных сосредоточений войск и предстоящих ударов Красной армии по ложным направлениям.
Сил и ресурсов на это было потрачено немало, но цель оправдывала средства. Легко сказать, но трудно представить, каково было некоторым подразделениям выполнить приказы о создании не менее трех оборонительных рубежей на глубину до 40 километров. Деревни и города готовили для круговой обороны. Перемещения войск вблизи прифронтовой полосы, не говоря уже о ней самой, допускались только ночами, и для неизбежных этих переходов полки, батальоны и даже роты дробили на группы поменьше. О ночных перекурах под открытым небом пришлось позабыть, а костры запрещалось разводить даже днем.
Хотел бы я знать, сколько же гвоздей понадобилось для сооружения множества макетов танков и муляжей самолетов. Притом саперы их принуждали не стоять на месте, как положено конструкциям из дерева, а с помощью лебедок и тросов имитировали движения башен и самих лжемашин.

Без малейшего преувеличения можно сказать, что древнейшее искусство введения врага в заблуждение было в те летние недели усовершенствовано до блеска к гордости самого Верховного главнокомандующего, гордившегося мастерством обманывать противника и охотно рассказывавшего об этом Рузвельту и Черчиллю. Причем есть свидетельства, что сэр Уинстон одобрительно заметил по этому поводу: «Правду приходится охранять путем неправды».
Интересно, рассказывал ли Сталин своим партнерам по «большой тройке» об опыте командующего 3-м Белорусским фронтом И.Д. Черняховского, проявившего себя в обманной игре как тонкий психолог, предугадавший ход размышлений штабистов армий группы «Центр», а может быть, и берлинских разгадчиков фронтовых комбинаций? Вопреки каноническим правилам он приказал строить макеты тридцатьчетверок и ИС не там, где наступать не собирался, а именно на тех площадях, где намечено было сосредоточить ударные группировки. Обнаружив с воздуха имитацию боевой техники, немцы сочли, что здесь реальных действий ожидать не приходится и попытались подыграть нашим маскировщикам, устроив бомбардировки… деревянными бомбами. Намек следовало понимать: мол, мы вас насквозь видим! Деревяшки они и впрямь рассмотрели вовремя, но вот пришедшую в нужный момент на смену муляжам настоящую технику, к которой в полной мере относились слова «броня крепка и танки наши быстры», разглядывать на стоянках было поздно, поскольку она уже ринулась в бой, что явилось для оккупантов кошмарной неожиданностью.
Результативность боев нетрудно оценить по воистину ураганным скоростям ликвидации «котлов», в которые угодили немецкие части: Бобруйский котел перестал существовать через три дня, Витебский уничтожен за четыре дня, Минский продержался шесть дней, Вильнюсского не стало после двух дней окружения, столько же немцы удерживали оборону в Брестском котле…
Тяжела ты, генеральская фуражка
Без огрехов, однако же, не обходилось, да и не может, увы, война состоять из одних только салютов и победных реляций. Гром московский или гром кремлевский разражался и над головами уже успевших прославиться военачальников. Много лет спустя о таких прихотях судьбы устами своего героя поиронизировал Михаил Шолохов: «Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает; под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова раскалывается от разных предположений; все ему надо предусмотреть, все предугадать… И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Вот тебе и кончен бал! Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала на чем свет стоит!..
Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками… А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку, берет он трубку, а сам думает: «Несчастная моя мамаша! И зачем ты меня генералом родила!» По телефону его матерно не ругают: в Москве вежливые люди живут.. , но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете?.. Как же это так у вас получилось?..» Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается и пот по спине бежит в три ручья… »

В сорок первом году, как всем нам хорошо известно, подобные разговоры иногда заканчивались расстрельным приговором трибунала. Тремя годами позднее до таких крайностей уже не доходили, но во всем остальном автор незавершенного романа «Они сражались за Родину» абсолютно не отклонялся от истины. На семинаре приводили в пример неудачу командующего 5-й гвардейской танковой армией П.А. Ротмистрова, прошедшего к началу операции «Багратион» воистину огонь, воду и медные трубы и ставшего после Корсунь-Шевченковской операции маршалом бронетанковых войск. Но при форсировании Березины фортуна оказалась явно не на его стороне, встречное сражение с 5-й немецкой танковой армией, переброшенной из Украины, тоже лавров ему не принесло и по настоянию командующего фронтом маршала отозвали в Москву, где он оказался на вполне престижном, но далеком от «подвигов, доблести и славы» посту заместителя командующего бронетанковыми и моторизированными войсками. В военных действиях Ротмистров уже участия не принимал. Его отстранение не все восприняли однозначно, в оправдание приводили действительно серьезный довод о нехватке горючего, но генерал М.Д. Соломатин, сменивший Ротмистрова на посту командарма, приказал собрать остатки топлива из баков большинства машин и заправить этими, так сказать, последними литрами семь-восемь десятков танков, которые и продолжили наступление.
Результативность боев нетрудно оценить по воистину ураганным скоростям ликвидации «котлов», в которые угодили немецкие части: Бобруйский котел перестал существовать через три дня, Витебский уничтожен за четыре дня, Минский продержался шесть дней, Вильнюсского не стало после двух дней окружения, столько же немцы удерживали оборону в Брестском котле…»
Живые факелы «Пантеры»
Немецкие военные любили и любят семейство кошачьих. Современный танк бундесвера они назвали «леопардом», а в далекие военные годы своих гусеничных агрессивных монстров именовали «тиграми» и «пантерами». Но была и еще одна «Пантера», укрощать и обезвреживать которую нашим войскам пришлось как раз во время Белорусской наступательной операции. Это кодовое прозвище получил первый оборонительный рубеж из двух полос, нашпигованных огневыми точками, усиленный всевозможной фортификацией и заграждениями, среди которых почти непроходимым считался «фландрский забор» — колья или рогатки с колючей проволокой в три-четыре ряда, между которыми щедро уложены были мины и для пехоты, и для танков. Кто же строил эти ловушки, западни, траншеи и прочее, если одна только главная полоса уходила в глубину до десяти километров, а за пределами, собственно, «Пантеры» всевозможные оборонительные преграды простирались кое-где даже на 270 километров? Конечно, были у гитлеровцев высококлассные саперы, но для такого размаха работ их явно не хватало. Отвлекать солдат из строевых частей тоже было непросто, резервов в группе армий «Центр» было немного.
Выход защитники фюрера нашли простой и стопроцентно людоедский. Прямо на линии фронта были устроены «трудовые» лагеря, в которые согнали ради одной только «Пантеры» около двухсот тысяч мирных жителей из пяти областей Беларуси и России. В архивах сохранились нормы выработки, от которых мороз по коже идет, — за один зимний день от каждого недобровольного рабочего немцы хотели получить восьмиметровую траншею глубиной 120 сантиметров и шириной в три четверти метра. За этот воистину рабский труд полагалось от 150 до 300 граммов хлеба и литр баланды. Сохранились свидетельства, что заболевших просто расстреливали или сжигали, облив бензином.
Очевидно, что фельдмаршалу Бушу, командовавшему группой армий «Центр» до взятия нашими войсками Минска, подобные тыловые «подвиги» напрямую сулили если не петлю, то затяжной тюремный срок, поэтому он постарался сдаться в плен англичанам. От скамьи подсудимых его спасла стенокардия, приступ которой избавил создателя «Пантеры» от земной кары.
«Момент истины» не для всех
О Белорусской наступательной операции написано много, но самой, пожалуй, известной книгой о ней уже больше сорока лет остается «Момент истины» Владимира Богомолова. Для большей предметности разговора напомню содержание. Собственно военных действий на ее страницах почти нет. Действие разворачивается между двумя главными этапами «Багратионовской» страды, а это в общей сложности одиннадцать (!) фронтовых наступательных операций, начиная с Витебско-Оршанской и кончая Осовецкой. Успех, как и всегда на войне, зависит во многом от эффекта неожиданности, а он-то под угрозой. Агрессивная немецкая агентура того и гляди насобирает столько фактов, способных дать слишком обильную пищу для умов аналитиков противника и, соответственно, катастрофически умножить количество жертв, без которых на войне и без того не обойтись. Шпионов надо поскорее обезвредить, тем более что дело взял на контроль лично Сталин. Вот и весь сюжет.
Книга вышла во многих странах мира, переведена на десятки языков, кроме… польского. Ведущие польские критики и писатели прочли роман еще в семидесятые годы, высоко его оценили, но за малым исключением легли костьми, чтобы не пропустить его в печать на языке Мицкевича, Сенкевича и Тувима. Полякам не понравилось, что Богомолов, сам будучи участником описанных событий, не проявил пиетета и почтения к Армии крайовой, которую они привыкли воспринимать наподобие священной коровы, подразумевающей одно лишь преклонение.
Героизма, если считать проявлением такового личное мужество, храбрость, готовность и склонность к самопожертвованию, на счету «аковцев» действительно немало. Однако про однозначное восхищение ими говорить все же не приходится. На Минском семинаре, давшем повод и материалы для этих заметок, роль Армии крайовой предстала совсем не столь однозначной, как ее принято воспринимать в Польше. Оказалось, что столкновения между советскими партизанами и «аковцами» начались еще в 1943 году, и накануне Белорусской наступательной операции Центральный штаб партизанского движения вынужден был пойти на разрыв сотрудничества с АК и подготовить документ о разоружении ее отрядов. Главное командование АК ответило тем же, запретив своим бойцам контакты с советскими партизанами. Поведение вчерашних союзников не будет казаться удивительным, если вспомнить, что Армия крайова была создана эмигрантским правительством Польши для восстановления этого государства в границах 1939 года, а значит, поглощения им Западной Беларуси. Недаром на семинаре констатировалось, что в целом «борьба с немцами» нередко сводилась к уничтожению неугодных им белорусов-педагогов, чиновников вместе с семьями.
Одна из попыток АК погромче заявить о себе была связана с планом «Острая Брама», предусматривавшим захват Вильнюса до подхода Красной армии. Из этой авантюры ничего не вышло, и часть «аковцев» прорвалась на запад, многие были разоружены, а кое-кто ушел в подполье и занялся откровенным терроризмом, истребляя неугодных, сжигая их дома и уничтожая православные церкви. Самодеятельностью здесь и не пахло. В диверсионной школе, работавшей в имении Дитрики Лидского района, успели обучить почти двести подрывников. Счет диверсий на железной дороге и терактов перевалил за две сотни.
Вот какую память оставили о себе те, для кого момент истины так и не наступил.
Олег ДЗЮБА, фото автора

 Без малейшего преувеличения можно сказать, что древнейшее искусство введения врага в заблуждение было в те летние недели усовершенствовано до блеска к гордости самого Верховного главнокомандующего, гордившегося мастерством обманывать противника и охотно рассказывавшего об этом Рузвельту и Черчиллю. Причем есть свидетельства, что сэр Уинстон одобрительно заметил по этому поводу: «Правду приходится охранять путем неправды».
Без малейшего преувеличения можно сказать, что древнейшее искусство введения врага в заблуждение было в те летние недели усовершенствовано до блеска к гордости самого Верховного главнокомандующего, гордившегося мастерством обманывать противника и охотно рассказывавшего об этом Рузвельту и Черчиллю. Причем есть свидетельства, что сэр Уинстон одобрительно заметил по этому поводу: «Правду приходится охранять путем неправды». В сорок первом году, как всем нам хорошо известно, подобные разговоры иногда заканчивались расстрельным приговором трибунала. Тремя годами позднее до таких крайностей уже не доходили, но во всем остальном автор незавершенного романа «Они сражались за Родину» абсолютно не отклонялся от истины. На семинаре приводили в пример неудачу командующего 5-й гвардейской танковой армией П.А. Ротмистрова, прошедшего к началу операции «Багратион» воистину огонь, воду и медные трубы и ставшего после Корсунь-Шевченковской операции маршалом бронетанковых войск. Но при форсировании Березины фортуна оказалась явно не на его стороне, встречное сражение с 5-й немецкой танковой армией, переброшенной из Украины, тоже лавров ему не принесло и по настоянию командующего фронтом маршала отозвали в Москву, где он оказался на вполне престижном, но далеком от «подвигов, доблести и славы» посту заместителя командующего бронетанковыми и моторизированными войсками. В военных действиях Ротмистров уже участия не принимал. Его отстранение не все восприняли однозначно, в оправдание приводили действительно серьезный довод о нехватке горючего, но генерал М.Д. Соломатин, сменивший Ротмистрова на посту командарма, приказал собрать остатки топлива из баков большинства машин и заправить этими, так сказать, последними литрами семь-восемь десятков танков, которые и продолжили наступление.
В сорок первом году, как всем нам хорошо известно, подобные разговоры иногда заканчивались расстрельным приговором трибунала. Тремя годами позднее до таких крайностей уже не доходили, но во всем остальном автор незавершенного романа «Они сражались за Родину» абсолютно не отклонялся от истины. На семинаре приводили в пример неудачу командующего 5-й гвардейской танковой армией П.А. Ротмистрова, прошедшего к началу операции «Багратион» воистину огонь, воду и медные трубы и ставшего после Корсунь-Шевченковской операции маршалом бронетанковых войск. Но при форсировании Березины фортуна оказалась явно не на его стороне, встречное сражение с 5-й немецкой танковой армией, переброшенной из Украины, тоже лавров ему не принесло и по настоянию командующего фронтом маршала отозвали в Москву, где он оказался на вполне престижном, но далеком от «подвигов, доблести и славы» посту заместителя командующего бронетанковыми и моторизированными войсками. В военных действиях Ротмистров уже участия не принимал. Его отстранение не все восприняли однозначно, в оправдание приводили действительно серьезный довод о нехватке горючего, но генерал М.Д. Соломатин, сменивший Ротмистрова на посту командарма, приказал собрать остатки топлива из баков большинства машин и заправить этими, так сказать, последними литрами семь-восемь десятков танков, которые и продолжили наступление.
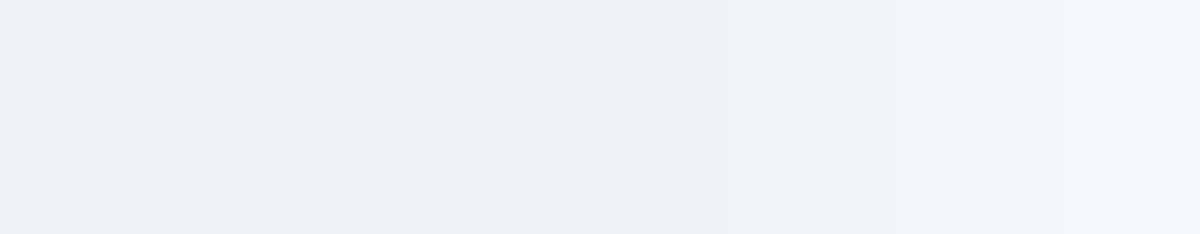

 3275
3275






