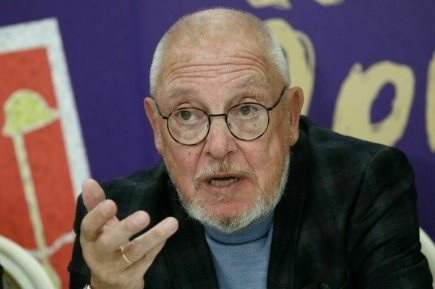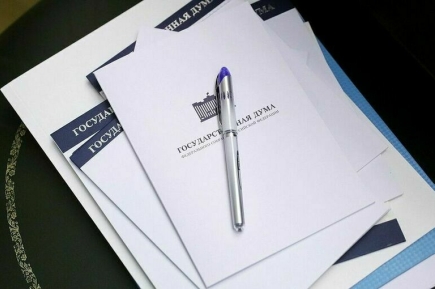Как двинуть интеграцию вперед?
Промышленники, политики, ученые под эгидой Московского экономического форума обсудили состояние евразийской интеграции и дальнейшие направления ее развития

Менее года осталось до создания Евразийского экономического союза, который, как подтвердил в минувшем декабре Президент РФ Владимир Путин, должен заработать с 1 января 2015 года. На мартовском заседании Высшего евразийского экономического совета президенты России, Беларуси и Казахстана обсудят проект договора о создании ЕАЭС. Судя по всему, политическая воля руководства трех государств опережает готовность общественного сознания к восприятию этой идеи. Свидетельство тому — дискуссии и страсти, вызываемые данной темой.
Сольемся рынками, друзья…
Евразийский экономический проект называют сумасшедшим вызовом. Кому? И миру, и трем странам — России, Беларуси, Казахстану, уже подписавшимся под ним. Ведь если честно, то в его успех верят далеко не все. Владимира Путина можно было бы даже назвать кремлевским мечтателем и утопистом, если бы не расширяющийся круг государств, которые выражают прямой интерес к этой идее. Перечисляю: Армения, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Сирия, Турция… Скептики посмеиваются, а зря. На интеграцию работает глобализация, которая идет в направлении олигополизации (создания странами региональных образований), политическая многополярность мира, возрождение геополитики. И наконец, снижение доминирования Евросоюза, поперхнувшегося быстро-проглоченными новыми членами, а также отрезвление не вошедших в него третьих стран от иллюзий, что они тут же решат свои проблемы лишь по факту своего членства в нем.
Первый шаг к ЕАЭС — Таможенный союз. Для чего он создавался? Отнюдь не для реставрации Советского Союза (в чем его обвиняют наши «друзья»), а в целях образования единого крупного экономического организма. Чтобы Россия не была разорвана между Европой, Китаем, исламским миром. Эйфория от первых успехов в виде выросшего за первый год на треть взаимного товарооборота прошла, и возникли разговоры о стагнации. Интеграционные эффекты, обращает внимание директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, сработали только в плане заполнения прежних рынков. Сказываются структурные проблемы: в основе экономики России и Казахстана — минеральные продукты. Еще один минус — слабые связи Минска и Астаны. У РФ и РБ разная инвестиционная привлекательность: по регистрации собственности Беларусь на 4-м месте в мире, Россия — на 45-м, по защите инвесторов — соответственно на 79-м и 104-м.
Невысока значимость взаимной торговли внутри Таможенного союза. Причиной тому произошедшая деиндустриализация России и Казахстана. Вес Беларуси, сохранившей промышленность, в торговле впятеро выше ее экономического потенциала, с точки зрения ВВП. Но Беларусь уперлась в возможности своих производственных мощностей, сохраненных с советских времен. Собственных ресурсов для их модернизации нет. Россию застопорила избранная модель развития, о необходимости смены которой власть заговорила на самом высоком уровне. Казахстан просто нуждается в создании новой промышленности, поскольку у него мало что осталось от прежней. И во всех трех странах есть еще и проблемы качества экономической политики. Зампред Комитета ГД по социальной политике Николай Коломейцев основой интеграции считает развитие производства, которому мешают диктат монополий и банковского сектора, неподъемные тарифы.
Российский бизнес жалуется, что интеграционистские сливки получает Беларусь, а экономические — Казахстан. «Вся выгода идет туда, мы от интеграции получили ноль. Примерно та же история с ВТО. Обещали одно, а имеем другое. Мы интеграционными инструментами только пальцы себе отшибаем», — сетует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Между тем, помощник Президента, академик Сергей Глазьев полон оптимизма. Интеграционный проект, считает он, реализуется очень быстро. Понадобилось всего пять лет для формирования Таможенного союза. Исчерпание начального эффекта снятия таможенных барьеров — нормальный рабочий момент и не повод для пессимизма. Что делать дальше? Углублять интеграцию. Два года назад было принято решение о переходе к ЕАЭС. За это время наднациональный орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (Евразийская экономическая комиссия) с 20 человек вырос до 1000 (значимый показатель, учитывая нашу бюрократическую традицию!), а сам процесс развивается вширь: идет по дорожной карте Армения, готовится Киргизия, интересуется Таджикистан.
По ходу вносятся коррективы в первоначальный замысел: о создании единой валюты, единого денежного пространства и единой кредитно-денежной системы теперь речи не идет. Ну и правильно. Ситуация еще не созрела. Разные экономические модели, сильно централизованные экономики и власти затрудняют передачу национальных полномочий на наднациональный уровень. Да и окружающая атмосфера русофобии, в которой даже самое малое консолидационное начинание воспринимается как угроза восстановления русского империализма, хотим мы того или не хотим, влияет на Минск и Астану. Именно поэтому на декабрьской встрече трех лидеров и Александр Лукашенко, и Нурсултан Назарбаев высказались против спешки и политизации экономических усилий без необходимости.
Плюсы и минусы
А есть еще и внешние риски. К их числу относятся проект Евросоюза «Восточное партнерство», так называемый экономический пояс КНР «Шелковый путь», который рассматривают как противовес американскому прожекту «Новый шелковый путь» (оба имеют целью освоение постсоветского пространства в южном подбрюшье России).
И все же караван интеграции, хоть медленно и скрипуче, но двигается вперед. У руководства страны есть понимание того, что это вопрос нашего исторического выживания и спасения. И наличествует политическая воля реализовать проект. Это дает надежду на то, что нынешние дефекты развития так или иначе будут преодолены.
Критики ТС указывают, что неравновесность и несоразмерность его членов, экономическое доминирование России, на которую приходится 87 процентов экономического потенциала, обусловливают дополнительные сложности. Но почему нам надо стесняться своей величины? Россия — безальтернативный лидер интеграции не потому, что она больше других, а потому, что лучше ее никто не может справиться с этой ролью в силу исторических, экономических и других причин, в том числе и наличия мощного оборонного комплекса. Экономическая интеграция одновременно является геостратегической. И насколько она важна, показывают события на Украине, где Запад делает все, чтобы оторвать ее от России. Майдан — попытка Евросоюза принудить Киев к подписанию соглашения об ассоциации.
Есть ли надежда на возвращение Украины в интеграционный процесс? Ее нынешняя политическая нестабильность, неясность дальнейшего политического ориентирования не позволяют однозначно ответить на этот вопрос. Вот ведь даже и выступление советника-посланника Посольства Украины в России Виктора Суслова, предложившего вернуться к идее о проведении трехсторонней консультации между Украиной, Россией и ЕС, вызвало неоднозначную реакцию со стороны председателя украинской ассоциации «Поставщики Таможенного союза» Олега Ногинского. Андрей Климов, как и полагается зампреду Комитета СФ по международным делам, дипломатично попенял коллегам на то, что вокруг экономических процессов слишком много политики.
Но как без нее? Один из украинских делегатов обратил внимание на то, что Евросоюз всегда дает красивую картинку о себе, хотя внутри него идут скандалы о квотах, нормах, дотациях. А представители России, приезжающие на Украину, ввели в обычай рассказывать о том, какой плохой Таможенный союз. Что это как не отсутствие правильной информационной политики? Он же пожаловался, что в ТС до сих пор не разработаны нормы техрегулирования для третьих стран, тогда как Брюссель последовательно отстраивает фундамент для евроинтеграции Украины, выделяя на эти цели каждый год по 30 млн евро.
Между тем, экономист Михаил Делягин не мыслит успеха интеграции без Украины, потому что, по его мнению, в ближайшие годы российская экономика без украинской не то что развиваться, а и просто существовать не сможет. К нему присоединяется замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв: «Производственный потенциал Украины — дополнительный ресурс для того, чтобы двинуть индустриальную модернизацию всех стран и ее собственную. Тем более что общей проблемой для всего СНГ является недостаточность финансовых средств на развитие. При этом за счет простого рефинансирования увеличить объемы кредитования не получается, потому что деньги конвертируются в валюту. Нужны механизмы проектного финансирования и дополнительные интеграционные усилия».
Короче, плюсы и минусы, достижения и слабости нынешнего интеграционного этапа можно перечислять долго, но участники дискуссии затронули проблемы, о которых обычно умалчивается.
Лидер интеграции
Первая — недостаточная привлекательность России как лидера интеграции. Директор Центра общественных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Осипов убежден, что пореформенная Россия не выполнит стоящую перед ней историческую задачу интеграции пространства СНГ, если серьезно не изменится сама. Недостаточную привлекательность России в глазах других стран считает главной проблемой и экономист Юрий Болдырев. А поскольку интеграции нет альтернативы, Россия должна измениться и, прежде всего, ответить, какова цель проекта, по каким правилам ведется игра? Если он всего лишь составляющая большого глобального проекта, не нашего, чужого, то ведь у тех же украинцев возникнет вопрос: а зачем нам идти в вашу интеграцию, которая на самом деле часть европейской, а не пойти ли туда сразу?
Сам интеграционный процесс, возможно, станет тем мотором, который заставит Россию перестроиться»
Вторая проблема — отсутствие согласия в товарищах, то есть в российской правящей элите относительно самого интеграционного проекта. Нет консенсуса и по более частному вопросу — об участии Украины в Евразийском экономическом союзе, продолжил ту же мысль Делягин. «Я был потрясен, — признался он, — обнаружив в руководстве большое количество людей — не либеральных, без активов в Европе, — и вместе с тем жестко противостоящих идее интеграции с Украиной». Мотивы называются смехотворные. Одни боятся бюрократического паралича регулирующих органов, другие — что, сохранив Севастополь, Россия никогда не построит базу ВМФ в Новороссийске. Владимир Жириновский своим выступлением прямо подтвердил тезис о разброде и шатаниях в этом вопросе. «Турция и Иран к нам стучатся, а Украина и Прибалтика нас оскорбляют, поэтому у Евразийского союза больше перспектив в движении на юг, а не в европейском направлении. Братские народы.., забудьте эти слова. Они враги. С фашистской Германией шли к нам все эти славяне и Западная Украина. Никаких скидок! Торговать с ними по среднеевропейским ценам!». Против необдуманного расширения Евразийского союза высказывается и лидер думских «справедливороссов» Сергей Миронов, хотя одновременно он за разноскоростную многоуровневую интеграцию.Третья проблема — идеологическая непроясненность интеграционного проекта. Российская власть настаивает, что два формата интеграции — ТС и ВТО — ничуть не противоречат друг другу. При создании Таможенного союза оговаривалось, что вся его территория является частью ВТО на условиях присоединения к нему России. Директору ЗАО «Петербургский тракторный завод» Сергею Серебрякову не понятно: «Если Таможенный союз является частью проекта ВТО, задуманного не нами, то какая роль отводится России и ее партнерам в глобальном проекте? Вписанность России, Беларуси и Казахстана в международную кредитно-финансовую систему — фактор, от которого они зависят больше, чем от самого внутреннего интеграционного проекта».
Что же отсюда следует? ВТО или евразийский проект — ложная дилемма, резюмирует Руслан Гринберг. Он советует равняться на Китай, который слушает всех, а поступает всегда так, как нужно ему самому. Беда России в том, полагает академик РАН, что она слишком верит словам. Пора уже привыкнуть к тому, что мир несправедлив и живет по двойным-тройным стандартам. Главное — стать привлекательным государством, где царит закон, где нет вопиющего социального неравенства, где труд оплачивается достойной зарплатой, где заботятся о детях и стариках.
Такова диалектика. И это совсем не означает, что интеграцию следует отложить в долгий ящик. Напротив, сам интеграционный процесс, возможно, станет тем мотором, который заставит Россию перестроиться. И этот рецепт — основание для оптимизма. Наш успех, получается, зависит в большей степени от нас, нежели от внешних воздействий. А его формула известна: «Играй по своим правилам и будешь всегда в выигрыше».